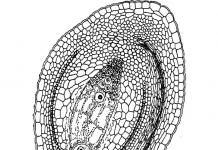Диалоги Григория Великого и легенды о загробной жизни в средние века
Присущее человеку стремление проникнуть в таинственную область будущего, разгадать то, что ожидает человека на том свете – стремление, замечаемое в людях на всех ступенях их культурного развития, выразилось между прочим в создании „легенд-видений“ загробной жизни, поэтических путешествий в загробный мир и т. д., которые длинным рядом проходят почти по всем литературам древнего и нового мира. У греков от Гомера до Платона и Плутарха, у римлян в эпоху Виргилия, Овидия, Лукана, Стация и т. д., у евреев в последние годы пред Рожд. Хр. и в первые века христианской эры – описания загробных стран, описания неба и ада, чередуясь с мечтаниями о будущем, о золотом веке, были одним из самых обильных и популярных сюжетов в поэзии, в искусстве и литературе. Но, не смотря на обилие поэтических легенд о загробной жизни в языческой и даже в иудейской старине, не смотря на то, что многие из них были весьма популярны в первые века христианства и обращались между христианами, что между ними и христианскими легендами замечается некоторое сходство и в последних по местам встречаются заимствования, – не смотря на все это, не подлежит сомнению, что христианская легенда в своей основе возникла и развивалась на этот раз вполне независимо. создало новый мир, дало новые идеи и указало искусству и поэзии новые пути. Оно приподняло завесу, за которую ни ум, ни фантазия язычника не могли проникать, определило значение земной жизни, открыло человеку его загробное будущее и даже указало на это будущее как на высшую цель земного существования человека. За гробом ожидает христианина все, чего нет в земной жизни, что для его верующего чувства является только „зерцалом в гадании “, – за гробом он будет отвечать за все – за все свои дела и помышления, тайные и явные; там – не в туманной стране теней, как мыслил языческий мир, а в царстве духов, существ высших, совершеннейших – наступит для него „настоящая“ жизнь, хотя условия для наследия этой жизни здесь же, на земле – в самом человеке, в его моральном складе и разумно-нравственной деятельности. Эсхатологическая доктрина получала прочную религиозно-нравственную основу и неизбежно выступала на первый план, а вместе с тем и христианская легенда о загробной жизни–эта религиозно-поэтическая эпопея загробной судьбы человека – получала для своего развития прочную, вполне независимую основу. Проследить ее судьбу в течении веков – дело далеко не легкое. В настоящем случае мы берем ее в сравнительно поздний средневековой период, притом преимущественно на западе. Для этого периода ее развития важнейшим источником послужили знаменитые „ Диалоги “ , рассмотрению которых в связи с средневековыми легендами мы и посвящаем нашу статью.
Доказывая, во-первых, что человек духовным оком может созерцать исход души и видеть то, что бывает с нею по разлучении с телом, Григорий Великий ссылается на блаженного Бенедикта, который, по словами его учеников, видел среди ночи, как душа Германа, епископа капуанского „восходила на небо в огненном облаке и в сопровождении ангелов“ . Ученики того же Бенедикта рассказывали, что один монах, по имени Григорий, неожиданно получил откровение – увидел, как душа его брата разлучалась с телом: оказалось, что в это именно время его брат умер (cap. VIII) . О смерти достопочтенного аббата нурсийского Спея Григорий Великий сообщает, что монахи видели, как его душа в виде небольшого голубка исходила из тела . Рассказывая о смерти другого пресвитера (cap. XI), св. Григорий говорит, что въ минуту смерти, окруженный своими близкими и родными, он начал восклицать: „Добро пожаловать, господе мои, добро пожаловать!.. Но зачем вы удостоиваете меня, раба вашего, своим посещением“? А когда окружающие спросили, к кому он обращался с вопросом, он ответил: Разве вы не видите, что сюда пришли св. апостолы? Разве не видите первых из апостолов – Петра и Павла?“ Затем, произнося слова: „я иду, иду!“ испустил дух . „Часто случается праведным, замечает по этому поводу св. Григорий, умирая видеть подле себя святыхъ, дабы в их присутствии без печали и боязни освободиться от оков плоти (Migne, 1. с. col. 337). Далее, со слов очевидцев, Григорий В. говорит о Сербуле, который, находясь в тяжкой болезни и чувствуя приближение смерти, позвал к себе странников (peregrinos viros), пользовавшихся гостеприимством в его доме, и просил, чтобы они вместе с ним пели псалмы в ожидании исхода его души, но когда началось пение, он вдруг остановил их, воскликнув: „Молчите! paзве вы не слышите, какие хвалы воспеваются на небе?“ – в эту минуту его душа разлучилась с телом (Migne. 1. с. col. 344) . – Коснувшись вопроса – все ли умирающие дети наследят царство небесное, и отвечая, что не все, – Григорий В. подтверждает это примером одного мальчика, который по небрежности родителей приучился хулить Бога: когда мальчик заболел и лежал на руках своего отца, внезапно появились злые духи (в греческом пер. Диалогов: та …), остановились пред ним и начали смотреть на него своими страшными, пожирающими взорами. Мальчик затрепетал и закричал отцу: „заступись за меня, заступись! Черные люди пришли, хотят меня унести“ . Вслед за этим, Григорий Великий переходит к учению о загробном состоянии человека и о местопребывании усопших душ, подтверждая свое учение также легендами. Праведники, по его учению, идут прямо в рай (гл. XXV), безусловно-грешные – в ад (гл. XXXII), чистилище (очистительный огонь) существует только для некоторых малозначительных грехов, как напр. непрестанное празднословие, неумеренный смех, излишнее попечение о земном и др. (гл. 39. 40. 55.). Ад находится под землею (гл. 42); это –бездонная пропасть (Moralia, XXVI cap. 37) с различными подразделениями: в нем есть места, в которых без всяких мучений и болезней покоились (до пришествия Христа) праведники, и места, в которых подвергаются мучениям различные грешники (penales loci) – одни в верхних, другие – в нижних частях ада, соответственно различным степеням их грехов (гордые, расточительные, завистливые и т. д. Dial. IV, cap. 35), а в самом нижнем углу ада обитает сатана (Moralia XII cap. 9; XIII, cap. 48). Для наказания грешников в аду существует вещественный огонь, огонь адский, показывающийся наружу при извержении вулканов. Люди могут проникать в загробную область и созерцать мучения грешников, или „в видении“, или умирая и снова, по воле Божией, возвращаясь к жизни и рассказывая другими то, что они видели по смерти. Рассказы такого рода Григорий Великий и приводит в подтверждение своих мыслей о загробной жизни. Так один отшельник рассказывал, что они видели, как „нечестивый готский король Теодорих после своей смерти был брошен в жерло вулкана“ (гл. XXX). „Репарат после смерти был отведен на место мучений, но потом возвратился к жизни, рассказал о том, что он видел, и снова умер“ (гл. XXXI). Один праведный муж, умирая, предвидел одновременную с ним кончину своего друга и послал слугу известить его об этом: „иди скажи, чтобы он шол, потому что готов уже корабль, на котором нам нужно ехать в Сицилию“. В пояснение этой легенды Григорий Великий говорит: „свидетельство умирающего, что его повезут в Сицилию, может означать то, что на сих островах, по преимуществу пред другими местами, из горных жерл извергаемый огонь приготовлен для мучений. Эти жерла, как рассказывают видевшие их, ежедневно расширяются в своем объеме, так что, чем более с приближением конца миpa собирается туда грешников, назначаемых для мучений в огне, тем более расширяются и самые места мучений“ (Migne, lib. cit. pag. 379; Казанский пер. 321 – 323). Один монах, по имени Петр, тяжело заболел и умер, но потом воскрес и рассказывал, что он видел бесчисленные места, охваченные адским пламенем и «в этом пламени он увидел подвергнутых мучениям „некоторых сильных века сего“ (quosdam hujus saeculi potentes), – он сам едва опасности: явился ангел в блестящем одеянии, защитил его и сказал: „возвратись и внимательнее подумай, как следуете тебе жить после сего“ (гл. XXXVI). О другом умершем рассказывали: после смерти он был отведен к адскому судье, но судья не принял и сказал: „не этого Стефана (так назывался, умерший) я велел привести, а другого, его соседа, занимающегося кованием железа“. После этого он тотчас же ожил, а другой Стефан умер (Migne, pag. 381)... Тут же Григорий Великий приводит легенду о воине, посетившем загробный мир: там он видел мост, внизу которого протекала река, черная, покрытая туманом и мглою и испускавшая необыкновенное зловоние, – позади моста был раскинуть широкий зеленеющий луг, украшенный цветами и пахучими растениями; на лугу было собрано множество людей, одетых в белые одеяния, и такой приятный запах наполнял это место, что пребывающие здесь могли насыщаться одною приятностию запаха . Вдали видны были различные жилища, ярко освещенные, и между ними особенно выдавался один дом, который, казалось, был сделан из одних золотых кирпичей... На берегу зловонной реки так же были различные жилища, но в них – мрак и смрад... По мосту проходили нечестивые и праведные – нечестивые падали вниз, в зловонную реку, а праведники тихо и покойно переходили на другую сторону реки в райские обители. В этих страшных местах воин нашол некоторых из знакомых ему лиц: Петра, старейшину церковного чина, умершего четыре года тому назад, – теперь он был повешен вниз головой и рассказал воину, за что он подвергся такому наказанию; там же воин увидел одного пресвитера, который подошол к упомянутому мосту и перешол по нему с такою же смелостию, с какою искренностию жил здесь, на земле, – наконец, он увидел там и того самого Стефана, о котором рассказывается в предъидущей легенде. „Когда Стефан хотел перейти чрез мост, его нога поскользнулась и он начал падать вниз, как вдруг из реки высунулись страшные люди, стали тащить его за ноги вниз, а в это время другие люди, одетые в белые одежды и благообразные видом, за плечи удерживали его и тащили вверх“... (гл. XXXVI).
Таковы те эсхатологические представления, которые развиты в „Диалогах“ Григория Великого , и мы сейчас увидим какую судьбу они имели в средние века. Но здесь же, предварительно, нужно заметить, что места, подчеркнутые в нашем изложении легенд Григория Великого, можно считать общими местами средневековой легенды о загробной жизни: от VI до XIV века можно проследить их в самых разнородных легендарных рассказах – и чисто церковных и народно-поэтических...
§ II.
Подлинность „Диалогов“ св. Григория не подлежит сомнению ; время их составления – 593 или 594 год . За их общеизвестность в средние века ручается прежде всего обширная популярность имени их автора. Григорий Великий и на востоке и на западе считался одним из знаменитейших римских первосвященников: „Запад видел в нем высшее олицетворение папской власти и вполне соглашался относительно его с суждением св. Ильдефонса, который был его современником и который заявлял, что Григорий В. превзошол св. Антония подвижничеством, Киприана – красноречием, бл. Августина – ученостию“ (Montalembert, Les Moines d’Occident, tom 2 pag. 182). Средневековые aгиorpaфы окружали его жизнь множеством чудес, совершенных им при жизни и после смерти ; его имя сделалось легендарным , его жизнь была избираема даже сюжетом для религиозных поэм . Сочинения Григория Великого , как несомненно известно, имели обширный круг читателей в средние века и оказали громадное влияние на средневековую церковную литературу, – не говоря уже о церковных писателях, для которых творения св. Григория в некотором роде служили настольной книгой, – его „беседами“ пользовались такие писатели, как напр. автор знаменитой немецкой поэмы „Heliand“ (поэма начала IX в.), англо-саксонские поэты – Кэдмон (конца VII в: см. Beda, Hislor. eccles. gent. Angl. lib. IV) и Киневульф (первой половины VIII в.) и др. . „Диалоги“ св. Григория приобретают известность вскоре после его смерти и очень рано были переведены на разные языки – на греческий (папою Захарием VIII), арабский, англо-саксонский и французский .
Как показал сделанный нами анализ этих „Диалогов“, они не заключают в себе – ни в форме, ни в содержании – почти ничего оригинального, ничего такого, чего нельзя было бы указать в более или менее отдаленной христианской древности. Легенды-видения начинают появляться с первых веков христианствa: видения Карпа, Христины, св. Перпетуи и др. . Позднее, „видения“ разного рода – действительные и фиктивные – приобрели особенно широкую популярность в среде монашеской. В IV веке у восточных монахов находилось в обращении множество легендарных видений, притом, как сообщает Созомен , „ложных, отвергаемых христианской древностию“ , т. е. таких, которые были созданием экзальтированной фантазии. Несомненно, и в эпоху Григория Великого у восточных и западных монахов легенды-видения были в большом ходу. Кроме Григория Великого, Григорий Турсткий, его современник (544–595) и человек строго монашеского воспитания, в „Истории Франков“ и в некоторых других сочинениях приводит несколько таких легенд , не обнаруживая ни малейшего недоверия или сомнения, хотя бы ему приходилось основываться на одних слухах или же сведениях и рассказах сомнительного происхождения . В следующем веке, знаменитый историк английской церкви Беда Достопочтенный с такою же наивностию и вероятно из того же источника сообщает подобного же рода легенды . Св. Григорий сам не скрывает, что все записанное им получено от монахов или вообще от людей близких к монастырю, где таким образом, нужно думать, гораздо ранее его легенда существовала уже в известной определенной форме, в форме устных, а может быть и письменных рассказов и преданий, получавших теперь, под пером св. Григория, литературную и до некоторой степени законченную, притом, авторитетную форму. Равным образом, рассматривая одно за другим различный эсхатологические представления, развиваемые в „Диалогах“ св. Григор1я, трудно указать между ними такое, которое нельзя было бы проследить до самой ранней христианской древности – или в писаниях отцов и учителей церкви, или в христианских легендах, апокрифах, равно как и в памятниках первоначального христианского искусства (в надписях и в живописи катакомб). Возможность общения между живыми и умершими с помощию „видений“ или странствований в загробный мир, представление души под разными символами, вся внешняя обстановка, при которой происходить расставание души с телом и переход ее в загробный мир, – самая обрисовка загробного пребывания душ – все это в „Диалогах“ излагается теми же самыми чертами, с какими этот предмет был уже известен в первые века христианства, даже относительно адских мучений, о которых незнает (или по крайней мере чуждается знать) христианское искусство первых трех веков, „Диалоги“ св. Григория могли подбирать самые яркие краски также прямо из древнейшего христианского источника – из отдельных месть в писаниях отцов церкви, из таких напр. произведений как знаменитое „Никодимово Евангелие“, которое, как показывает исследование Мори, появилось в конце IV века и изображало ад чертами, взятыми из писаний отцов церкви , – или, наконец, из таких блестящих поэтических картин, изображающих загробный мир, какие напр. встречаются у Ефрема Сирина и у Пруденция . При этом, не должно опускать из виду и некоторое прямое влияние старых классически-мифологических традиций (таково напр. в Диалогах ев. Григория поверье относительно вулканов, представление моста переводящего в загробный мир и др.), восходящее также к самой ранней христианской древности. Известно, что многие из древнейших писателей понимали в прямом реальном смысле некоторые из поэтических описаний греческого Гадеса (у Гомера или Платона, 1 и 10 кн. Республ. и др.), или утверждая, что язычники делали заимствования из ветхозаветных пророков (Иустинъ), или же просто находя в этих описаниях черты вполне отвечающая христианскому понятию об аде (Климент Александрийский) . Таким образом, если в „Диалогах“ св. Григор1я проглядывают даже некоторые из древнейших мифологических традиций не христианского начала, то и в этом случае „Диалоги“ не выступали из круга представлений, обращавшихся в христианской древности, что, разумеется, ни мало не ослабляет их значения по отношению к средним векам, – напротив, увеличивает оное: они констатировали древне-христианские представления и верования относительно загробной жизни и передавали их средним векам в простой, увлекательной форме легенды, которая, как известно, всегда имела широкую популярность и в древности и в средние века, находила читателей всюду – и в монастыре, и в высших слоях общества, и в простом народе, как всем одинаково доступная по своей простоте и незамысловатости. Поэтому, неудивительно, если позднее, в средние века, церковная легенда и мирская песня (напр. некоторые из chanson des gestes, позднее fabliaux, песни миннезингеров и пр.), развивая средневековый эсхатологические представления, часто обнаруживают одинаковое знакомство с этими „Диалогами“ – иногда делают из них заимствования, вносят новые черты или же только изменяют, вариируют подробности, сообщаемые в них.
Но обращаясь к рассмотрению « Диалогов» св. Григория с этой стороны – со стороны влияния на средневековую легенду в ее дальнейшем развитии (после VI века), прежде всего следует заметить, что проследить с фактической точностию прямое влияние их (как и всякого подобного источника) в отдельных и как известно весьма многочисленных средневековых легендам – едвали возможно. Легенда вообще такой род поэзии, который удобно комбинирует разнородные представления, взятые из одного известного источника, и однакож она как бы не знает его, остается в стороне от своего главного источника, иногда сама не замечает его присутст1ня. Кроме того, легенда очень легко и очень часто принимает в себя черты отовсюду, и притом главное – из преданий и легенд классической древности, равно как из легенд и мифов местного происхождения, оставшихся от языческой старины того или другого народа. Мы позволим себе остановиться на этом пункте. Язычество и на Востоке и на Западе не разом уступило христианству; оно долгое время сохранялось в народе (в некоторых местах и до сих пор) – в народных поверьях, обрядах, обычаях (двоеверие) и, всего чаще, ассимилировалось с христианскими верованиями и установлениями . Равным образом, решительного разрыва, полного отречения христианских народов от классической старины с ее литературой и искусством не могло быть, и мы смеем думать, что его действительно никогда и не было. Византийское искусство в различные периоды своего развитая сохраняло живые связи с искусством классических антиков, то приближаясь, то удаляясь от них , и вероятно тоже самое в известной мере представляет и византийская литература, хотя, к сожалению, об ней мы знаем слишком мало, чтобы можно было утверждать что-либо положительное. Затем, что касается связей христианского Запада с классической древностию, то известен целый ряд красноречивых свидетельств в утвердительном смысле. Италия, прямая наследница всех сокровищ античной древности, никогда не прерывала своих кровных связей с древне-классическим миром и блестящим образом выполнила роль ближайшей посредницы между ним и ново-европейским Западом. В Италии каждый уголок, каждое местечко, носившее римское название, были освящены преданиями и воспоминаниями классической старины, – множество старинных классических поверий, обрядов, празднеств долгое время сохранялось здесь почти без всякого изменения (напр. Языческие празднества в дни генварских календ и весною – до XVI в., а карнавал – старый языческий праздник, как известно, справляется и по-ныне). Понятно, тем более уже классические литературные предания никогда не умолкали в Италии: римские поэты Гораций, Овидий, но особенно Виргилий были окружаемы в итальянском народе ореолом неувядаемой славы и величия, – вокруг последнего был сосредоточен целый цикл классических воспоминаний ; мало того, благодарные соотечественники даже причислили его, своего любимца, в лику католических святых, как человека, который, оставаясь язычником, силою человеческой мудрости мог проникать в тайны божественного провидения и предвозвещать, близкое пришествие Христа, даже Его рождение от Девы . Западная церковь с своей стороны способствовала сохранению литературы и многочисленных традиций старого Рима. Она освятила своим употреблением латинский язык, сообщив ему чрез это обязательно-авторитетное значение для всего Запада, сохранила многое ис древней науки, сохранила памятники искусства и всегда с должным уважением относилась к римским классическим писателям: почти все лучшие западные церковные писатели, даже в наиболее темные средние века, гордились знанием классической латыни и классиков! . Западные монастыри не отказывались от ближайшего знакомства С языческой стариной: они собирали рукописи древних классиков в своих библиотеках , делали с них копии, читали их, объясняли в школах и распространяли знакомство с ними в различных слоях общества, что, при общительном характере западного монашества, происходило само собою . Из Италии, как из своего центра, предания античной древности расходились по всему Западу. Принимая латинский язык, а потом и , западные народы волей-неволей входили в духовное общение с древним Римом, связывали с ним свои судьбы, подчинялись ему, и так скоро и неизбежно, что, действительно, римский историк Тацит с полным правом, как для своего времени, так и для позднейших веков мог заявить, что „даже самые упорные из европейских варваров (Бритты)“, более других противившиеся власти Рима, кончали тем, что начинали завидовать римскому красноречию .
В виду указанных исторических фактов становится понятным постоянное и довольно заметное присутствие античных преданий и мифов в средневековой западной литературе, которые, или разбросанные по частям, отрывочно, или в цельном виде и переплетаясь между собою, оставили следы своего продолжительного влияния почти в одинаковой мере и в произведениях национальной поэзии различных европейских народов (что в сильной степени замечается уже с XI по ХIII в., следовательно задолго до так-называемой „эпохи возрождения“) и в церковных легендах, хотя последние всегда имели свои специально-христианские образцы и свои особые литературные традиции. Чтобы видеть, как легко и удобно произведения древне-классической фантазии могли попадать в литературу и в обще-народное обращение, даже помимо их специальных источников (сочинений древних классиков), из которых можно было их почерпать – приводим один пример. Всем известен классический миф о схождении Орфея в ад, – миф этот изложен в IV кн. «Георгик» Виргилия (стих. 450 – 560) и в 10 кн. „Метаморфоз“ (ст. 1 – 85) Овидия. У Боэция (в VI в.) в его «De Consolatione Philosophiae» вполне приведен миф об Орфее, но с дидактической целию: из него сделана парабола с целию доказать ту мысль, что всей душей нужно прилепляться к высочайшему благу – к Богу и безразлично относиться к вещам мира сего. Теперь, так как труд Боэция быль чрезвычайно любим на Западе в течении всех средних веков и был известен на разных европейских языках во множестве прозаических и стихотворных переводов ; то как этот миф (в своей новой форме), так и многие другие, приводимые Боэцием с указанной же целию, входили в общелитературное и народное обращение и давали сюжеты для новых легенд .
Таким образом, присутствие классических традиций, легенд и мифов классической древности в средневековом обществе и литературе – факт, который в частности по отношению к представлениям о загробной жизни, в историческом развитии легенды, обнаружился тем, что легенда мало по малу усвоила и провела в общество множество мифологических представлений, касавшихся загробной жизни, которыми на этот раз была богата классическая древность, – легенда приспособила их к христианским понятиям и в таком виде распространила . Что это так, достаточно указать один пример, конечно сравнительно поздний, но тем не менее вполне убедительный: Данте, несомненно строгий богослов-ортодоксал, вносит целые сцены из классической мифологии в свою „Божественную Комедию“, украшает картинами греко-римского ада и элизума христианские загробные страны, а в начале поэмы (Infern., Cant. II, ст. 25 – 33), кратко указывая свои главные поэтические источники, рядом с классической легендой о сошествии Энея в ад тотчас же упоминает о восхищении апостола Павла на третье небо, послужившее предметом особой специально-христианской церковной легенды (апокриф – Visio S. Pauli), которую вероятно в данном случае и разумел Данте .
Церковная легенда идет в одном ряду с классической, – обмен между ними разного рода подробностями был удобен и вместе с тем неизбежен, потому что легенда вообще неразборчива в пользовании различными источниками. Но кроме классического источника, средневековая легенда располагала данными иного рода, – это, как мы сказали, старые язычески-мифологические представления различных европейских народов – скандинавов, кельтов и т. д. Западно-европейское язычество имело довольно развитую религиозную систему (как напр. друидизм) и вполне разработанную мифологию (какова германо-скандинавская), в которой разного рода представления и мифы относительно загробного существования человека занимают видное и весьма широкое место. Народная песня (песни германских скальдов или ирландских бардов) хранила эти представления, питала ими народное чувство и фантазию и тем самым способствовала их необыкновенной живучести. не могло разом уничтожить их, вырвать с корнем из народного миросозерцания, да оно и не стремилось к этому или, вернее, не всегда противилось им, а в некоторых случаях даже пользовалось ими в целях миссионерских. Так легенда о св. Вольфраме рассказывает, что сатана в образе ангела света предстал пред герцогом Фризов Рутодом (Ruthod), который упорно противился принятию христианства (в начале VIII века), и показал ему во всем блеске царство блаженных, обещая отдать ему это царство, если только он не покинет веру своих отцов, – но это был ад, представленный с теми самыми чертами, в каких изображается в германской мифологии Walhala, германо-скандинавский рай, назначенный для принятия героев и великих полководцев, после их смерти . И вот, таким образом, старый языческий рай, со всеми его прелестями, для христианского миссионера – ад со всеми его соблазнами на земле и со всеми ужасами за гробом... При таком отношении к старым поэтически-мифологическим представлениям, последние очень легко попадали в разного рода произведения чисто христианской поэзии и сообщали им особую, своеобразную окраску. Фактов этого рода западно-европейские литературы представляют большое число, но мы укажем только некоторые. Так напр., англо-саксонский поэт Кэдмон (ум. в 680 г.) в поэме „о Создали мира“ описывает ад, как огненную пропасть, лишенную света – „наполненную огнем и мраком, всеистребляющим жаром и вселеденящим холодом“. В другой поэме того же Кэдмона –„Христос и сатана“, составленной под влиянием „Никодимовского Евангелия“ , сатана вспоминает о своем прежнем величии „в обители радостей, прекрасной и блестящей, и сравнивает с нею свое теперешнее положение, свое пребывание „во дворе змей“ (schlangenhofe), „среди ехидн и василисков“ (Ottern und Nattern), в вечной тьме, среди вечного шума и смятения. Драконы и другие чудовища страшного, исполинского вида охраняют доступ в его жилище . Bсе эти черты, какими здесь изображен ад, весьма живо напоминают германо-скандинавский Niflheim – ад, как он был изображаем в мифологии германо-скандинавского Севера , и в другом стихотворении того же Кэдмона „о Юдифи“ говорится, что когда Юдифь отрубила голову Олоферну, то он прямо низшол в Niflheim , – слово Niflheim, кроме того, часто многими из немецких и англо-саксонских церковных писателей употреблялось для названия ада . Проникновение или окраска христианских представлений в языческий цвет сравнительно очень долго держались на Западе и нисколько не смущали даже таких набожных людей, как напр. знаменитая шведская монахиня св. Бригитта (род. в 1303 г.): в ее знаменитых „Видениях“ снова встречаются такие же точно „древне-скандинавские отголоски“, как и в указанных произведениях англо-саксонского поэта VII века и у многих других западных писателей . Иногда происходило даже полное смешение языческих эсхатологических представлений с христианскими верованиями, и легенда почти совсем утрачивала свой христианский характер. Такова знаменитая „Песнь солнцу – Solar-lioth“, составляющая прибавление к „Старшей Эдде“ (Seamund’а Sigfusson’а, жив. в XI – XII в.), древне-скандинавской поэме, как известно, составленной под сильными влиянием христианских понятий . В „ Solar-ioth “ описывается явление умершего отца сыну во сне, подробно говорится о воздаяниях грешным и праведным, описываются тартар, сатана и его жилище – и на ряду с этим, с самого же начала упоминаются „врата Гелы“, ведущие в загробный мир, адские реки (Gjallar Straumar) и мост переброшенный чрез них, говорится о Норнах и их суде, о „дочерях Njörd"ы“ и т. д. . Конечно, в произведениях, подобных „Solar-lioth“, нельзя сказать, насколько в них отразилось влияние церковной легенды и даже было ли таковое, так как старое северное язычество имело много своих легенд-видений, – тем не менее, для истории верований в загробную жизнь, на-сколько они разработаны средневековой легендой, остается весьма характерным явлением это переплетение христианских понятий с древне-языческими, какое замечается в „Solar-lioth“. Оно обозначает собою тот особый приток мифологических данных, который на ряду с рассмотренным выше – древне-классическим – определял судьбу этой легенды, а вместе с тем вносил новые черты в общую сокровищницу средневековой западно-христианской мифологии. Но, далее, известны и такие случаи, когда старая языческая легенда или миф давали сюжеты или просто переделывались в церковную легенду: тут уже отношение языческого к христианскому прямое и более очевидное. Таковы – знаменитая легенда о св. Брандане и его спутниках и не менее знаменитая – о частилище св. Патрика, разработанная в целом ряде легенд, поверий, обрядов, имевших некогда не только народное, но вместе и церковное признание . Первая из этих легенд, при всем разнообразии ее фантастических подробностей, есть очевидная переделка, с привнесением некоторых христианских черт – переделка старой народной песни ирландских бардов, которые славились измышлением разного рода фантастических путешествий ; вторая пользуется старинным ирландским поверьем (имевшим в язычестве свой смысл) о заколдованных (у язычников – священных) пещерах и островах и создает на основании его целую, не менее фантастическую историю, которую вплетает в жизнеописание наиболее чтимого в Ирландии святого и в таком виде пускает поверье по всему Западу, не только завлекая этим любителей душеполезного чтения (а таковым был весь средневековой Запад), хроникёров н поэтов (Матфей Парижский – в хронике, Marie de France – в особой поэме, Кальдерон – в особой драме и др.), но, что гораздо важнее, находит полное доверие к себе и привлекает целые толпы пилигримов в далекую суровую Ирландию, к той таинственной пещере в графстве Donegal, в которую, по легенде, спускался св. Патрик, апостол и просветитель Ирландии (372 – 466), и в которой, как сообщала легенда, каждый благочестивый католик может лично узреть мучения грешных в чистилище, подвергшись предварительному искусу и выполнивши известного рода обряды …
§ III.
Развитие средневековой легенды определялось, кроме прямых церковных источников, с одной стороны, данными классической мифологии и литератур и с другой – остатками языческих поверий, легенд, мифов, и следовательно прямого отношения, тем более, определяющего влияния „Диалогов“ св. Григория на средневековую легенду (в качестве ее источника) не могло быть . Но в них именно есть одна подробность, связующая их с позднейшими средневековыми легендами, – это, правда, незначительная и может быть вовсе ненамеренная, но тем не менее довольно заметная „тенденциозность“, которая проглядывает в разных местах сообщаемых ими легенд, тенденциозность, дозволяющая напр. называть по именам некоторых лиц, встреченных визионерами во время их блужданий по загробному миру. Так о нечестивом короле готов Теодорихе, причинившем много бедствий Италии и в частности римской церкви, в „Диалогах“ сообщается, что после смерти он был ввергнут в жерло вулкана – в адскую пропасть, ввергнут теми лицами, которых он коварно умертвил –папою Иоанном и патрицием Симмахом. О Петре, старейшине церковного чина, умершем четыре года назад, говорится, что один воин, видевший его в загробной стране, нашол его скованным тяжолыми железами и повешенным вниз головою, тогда как, напротив, другой монах, отличавшейся святою жизнию – удостоился беспрепятственно перейти чрез адский мост в области рая. Такие же подробности сообщаются и относительно некоего Стефана – о борьбе за его душу ангелов с злыми духами, относительно Петра монаха, который видел в загробном мире некоторых знатных людей в адском огне. – Очевидно, в подробностях такого рода, как бы они ни были незначительно и ненамеренны со стороны их автора, легенда уклонялась от специальной области „видений“. Она начинает интересоваться лицами более или менее известными, более или менее близкими к современной эпохе, заявляет симпатии к одним, помещая их в стране блаженства за их святую жизнь и деятельность, п осуждает других, посылая их в ад за их нечестие и злодеяния. Древне-христианская церковная легенда не знала этих черт; ни в легендах Фиваидских отшельников, ни в житиях святых и видениях мучеников – нет их и не могло быть; тут один экстаз, восхищение умом и сердцем в горние страны, полное отречение от всего земного, исключающее всякие симпатии п антипатии к отдельными частным лицам, или же полное прощение всем, во имя общей христианской любви, что пи ожидало бы людей на том свете. Легенды св. Григория, как мы только –что указали, уже не таковы, а тем более, легенды позднейшие (после VI в.), которые в данном случае прямо к ним примыкают. В них указанная черта, чем далее, тем более и более развивалась, тенденциозность становится главным побуждением к созданию легенды, подчас делается прямым орудием, чтобы устрашить тех, кото хотело устрашить монашество, дать кому следовало надлежащий урок, внушение, или польстить тем, кому оно благоволило, а иногда под прикрытием легенды проводить такие или иные, но во всяком случае далеко не одни душеспасительные стремления. С другой стороны, из церковной легенды переходя в народную, равно как в произведшая различных средневековых поэтов, указанная черта –тенденциозность, стремление поучать легендой и делать внушения, скоро расширяется в целую сатиру, которая бичует всех без разбору, а подчас просто потешается на счет того же самого монашества, которое в своих легендах казнило адскими казнями всех, дерзавших несоглашаться с ним или указывать его уклонения от чистого идеала (всего чаще – от уставов) монашеской жизни. Тут было широкое поле для сатиры, и действительно сатира воспользовалась легендой, как подходящей формой, и придала ей особое, своеобразное значение.
Чтобы наши общие соображения не оказались голословными, обращаемся к фактам, имея в виду главными образом одну вышеуказанную черту в отношениях „,Диалогов“ св. Григория к средневековым западным легендам (конечно, полный обзор относящегося сюда материала мы не намерены делать, да он и ненужен для наших целей). Следя эту черту в церковных легендах, тотчас же встречаем „видения“ в роде видения о Теодорихе. Заметили, что и Григорий Турский рассказывает легенду о Теодорихе, пользуясь вероятно, как и Григорий В., одними и тем же источником – устной легендой или народным преданием. У того же Григория Турского (Hist. Franc. VIII, 5) есть другая не менее характерная легенда в том же роде – об известном короле из Меровингов, Хильперихе, который прославился жестокостью п бесчеловечием и был известен враждебным отношением к церкви и духовенству (Григорий Турский называет его „Нероном и Иродом своего времени“): легенда сообщает, что когда Хильперих был убит (в 584 г.), то его брат Гонтрам имел видение, в котором пред ним предстали три епископа и вместе с ними Хильперих, связанный по рукам и ногам. Двое из епископов говорили: „оставим его, пусть он будет свободен, когда исполнится назначенное ему наказание“, но третий резко возражал: „нет, пусть огонь пожрет его за все его злодеяния“! Спор продолжался, и вот Гонтрам увидел вдали медный котел, поставленный на огонь, ужаснулся и начал горько плакать, потому что в это время его брат был немилосердо увлечен к месту мучения, растерзан на части и ввергнуть в медный котел .... Из числа других легенд в том же роде более значительные – видение монаха Беттина (Wettin), легенда о короле Дагоберте, о Людовике „Железная Рука“, о Каpле Лысом и др. Монах Веттин, как сообщает (в Acta Sanct.) аббат того монастыря, в котором Веттин жил, впал в тяжолую болезнь и удостоился видения. Пред ним явились ангелы, взяли его с собою и повели „чрез высокие горы, показавшиеся ему мраморными“. Дальше он увидел огненную pекy, в которую были погружены целые толпы лиц духовных, между которыми Веттин узнал многих из числа знакомых ему лиц, и здесь же увидел императора Карла Великого, который был пожираем ядовитыми змеями. Веттин удивился, что такой великий император, опора и защита церкви, осужден на такие страшные мучения, но ему сказали, что император в своей частной жизни придерживался некоторых старых языческих обычаев, за что и должен теперь страдать, хотя его мучения – временные: он находится в чистилище .... Действительно, может показаться несколько странным – то осуждение великого императора, какое встречается в легенде Веттина: Карл Великий был любимцем народа и духовенства и сосредоточивал вокруг своего лица целый ряд прекраснейших поэтических сказаний (о его мнимом путешествии в святую землю, о борьбе с испанскими Маврами и т. дал.). Но есть другая легенда (XI в.), которая исправляет эту неловкость, освобождает великого императора от всяких укоров в таком или ином прегрешении и прямо помещает его в число избранных святых, – это – видение Турпина, епископа реймского, мнимого 6иoграфа Карла В. (Турпин ум. в 794 г., а Карл В. в 814). Легенда рассказывает , будто Турпин, находясь однажды на молитве, увидел целую толпу демонов, „с шумом и гиком“ направлявшихся за душою Карла Великого ; Турпин остановил их и велел, чтобы по возвращении назад они известили о случившемся с императором. Спустя не много времени, демоны возвращаются назад опечаленные и говорят, что они были несчастливы, потому что когда они прибыли в назначенное место, явился и архангел Михаил с своими легионами; тогда выступили вперед два человека Acephali (без голов) – Iacobus Galiciensis (испанский) и Dionisius de Francia, начали взвешивать добрые дела императора – его заботы об устроении и украшении церквей; добрые дела взяли перевес, и мы, говорят демоны, навсегда лишились его души... В легенде Веттина, между прочим, нельзя не обратить внимания на одну подробность, вообще довольно редкую в таких случаях и потому-то для нас имеющую некоторую особую важность: легенда сообщает, что Веттин во время болезни велел читать для него,Диалоги“ св. Григория, и вот после этого чтения он и имел видение“. С одной стороны, эта подробность делает понятным „Видение Веттина“ как явление психологическое: его больное воображение (если только его биограф-аббат верно передает то, что Веттин на самом деле мог видеть в болезненном экстазе) работало в томи именно направлении, какое давало чтение „Диалогов“, из готовых нитей сплетало новую ткань (легенда о Теодорихе у Григория Великого – и легенда о Карле В. у Веттина). С другой стороны, она показывает, как легко составлялись такие легенды и в каких нередко прямых отношениях (как увидим это и в последствии) они находились к своему древнейшему церковному источнику – легендам св. Григория. Это одно до некоторой степени может служить достаточным оправданием нашей попытки рассмотрения «Диалогов» св. Григория в связи с общим развитием средневековой легенды о загробной жизни. Но обратимся к другим легендам, однородным с только-что указанными. Такова легенда о Карле le Gros, короле французском: „Видение мук, показанных Карлу, о которых он сам рассказал“ , у хронографов под 884 и 888 годом . Повествуя о своем хождении по различным мучениям, Карл говорит, что в одном месте он видел епископов своего отца, мучимых страшными муками, и с ужасом спросил: за что они таки жестоко наказаны? Они отвечали: „увы! мы были епископами при твоем отце и нашей обязанностию было внушать мир и согласие, но мы сеяли раздоры и были виновниками великих несчастий, – за это мы и подверглись адским мучениям“! В другом, еще более страшном месте Карл увидел многих князей, своего отца и своих братьев: мы любили войны, говорили они с жалобным стоном, душегубство, грабежи, и вот теперь казнимся за свои преступления! Издали раздавался голос: большим – и большие мучения!... В этой легенде, как и в других, изложенных выше, составители легенд обращались к представителям высшей светской власти, угрожая адом и вечными муками, но тенденциозность этого рода еще очевиднее в тех случаях, когда легенда прямо осуждает одно какое-нибудь лицо и превозносит другое, или же направляет свои осуждения против какой-нибудь известной церковной партии. Таково „видение“ Бертольда (IX в.), сообщаемое Гинкмаром, епископом реймским, в особом официальном послании (и следовательно имевшее значение вполне убедительного документа) , в котором визионер осуждает епископа Еббона и всю партию, противную Гинкмару, на адские мучения и, напротив, самого Гинкмара помещает в число „избранных“, и вообще все видение таково, что древнейший пересказчик легенды (Фродоар) нашелся вынужденным заметить, что Гинкмар „там, где нужно было“ изложил „по своему“ легенду, сообщенную ему другими .... В других легендах тенденции политического характера (как в вышеприведенных) уступают место интересам и стремлениям церковно-общественного свойства: легенда осуждает современные пороки и недостатки различных классов общества, угрожает адом и своей угрозой поучает, – поучение, конечно, выходило не-совсем в христианском духе, но оно достигало своей цели в те века варварства и потому угрозы адскими казнями рано сделались общим местом средневековой проповеди и нравоучительной литературы. Легенд в этом роде было множество, – мы приведем только одну, находящуюся в письмах св. Бонифация (VIII в.) и сравнительно более раннюю. Однажды распространился слух, пишет св. Бонифаций, будто в монастыре Мильбурга воскрес мертвец. Св. Бонифаций хотел сам лично удостовериться в справедливости слуха, призвал визитера, который „в присутствии трех достопочтенных особ“ и рассказал, как во время болезни его душа отделилась от тела и как неожиданно он очутился в надземных сферах: „он хорошо различал землю, – издали она казалась как бы объятой пламенем а поместам «можно было рассмотреть, что все пространство между землею и высшими сферами наполнено душами людей, только что покинувших земную жизнь и отходящих „в дальний путь“. Лишь только эти души достигали известного места, они становились предметом спора между ангелами и демонами, причем злые духи всячески старались обмануть ангелов при взвешивании достоинств различных душ. „Пороки и добродетели выступали лично и принимали участие в споре“: Высокомерие, Леность, Расточительность и др. пороки открывали свое прошлое, потом „малые добродетели – parvae virtutes“, в числе их даже „Послушание и Пост“ являлись в лицах пред грозными судиями и требовали должного воздаяния... Ангелы защитили визитера от нападения адских полчищ и в подробностях показали ему места осуждения, а потом привели его в одно обворожительное местечко, где он встретил блестящее собрание людей изумительно прекрасных, которые издали делали ему знаки, чтобы он подошол к ним: здесь был рай, но он не мог проникнуть в него. Наконец, ангелы повелели ему возвратиться на землю я рассказать людям набожными все, что он видел во время своего странствования, и ничего не говорить тем, которые стали бы смеяться над его рассказами: insultanlibus narrare denegaret . Эта довольно наивная легенда заключает в себе все черты средневековых моралите: подобно моралите (особый род церковной драмы) она олицетворяет пороки и добродетели, показывает гибельную сторону первых и спасительность вторых, осуждает первые и своим осуждением, равно как превознесением добродетелей и достоинств человека, поучает людей. Вместе с тем, легенда св. Бонифация может служить кратким схематическим образцом длинного ряда подобных легенд: в ее неширокие рамки весьма удобно было вводить какие угодно подробности, можно было помещать целые картины из современной жизни. Выше мы уже делали ссылки на „Божественную Комедию“ Данте и на этот раз можем указать на нее же, как на такое произведете, в котором последняя из указанных нами особенностей средневековой легенды о загробных видениях выступает в полной рельефности и изобразительности, потому что действительно „поэтическая легенда“ великого флорентийца есть полная и изумительно верная картина всего общественного, интеллектуального, нравственного и религиозного состояния Италии и всей католической Европы в ХIII – XIV век., столько же поучительная для своего времени, как и для позднейших веков. Дальше в этом направлении легенда, разумеется, не пошла и не могла пойти, и разве второй Данте мог бы создать из нее что-нибудь новое в том же роде, превративши, подобно ему, слабое осуждение церковной легендой современных пороков и общественно-политических нестроений в громовую сатиру, произносящую грозный приговор целым векам общественно-политического и церковного развития европейских народов. В сфере церковной легенда не пошла далее фантастических, больше или меньше окрашенных „в современный цвет“ рассказов и картин, довольствуясь притом, большею частию, как и в приведенной легенде св. Бонифация, „безличным осуждением“ и детальной разрисовкой различных пороков и добродетелей, который трудно приурочить к какому-нибудь месту, времени или обществу, хотя при более точном и обстоятельном обследовании средневековых церковных легенд не трудно проследить в них, как и в средневековых мистериях и моралите (в данном случае однородных с легендой), – проследить в них черты живой современности, сколько бы ни были общи суждения и осуждения различных визионеров, сколько бы они ни старались убегать в туманную область мистики и аллегории . Особенно это заметно выступает на вид в средневековой проповеди , которая, как известно, весьма часто вводит в свой текст разного рода легенды, в том числе и эсхатологического характера. Церковные проповедники, по примеру лучших и знаменитейших представителей римской церкви (Петр Дамиан, св. Ансельм, св. Бернард, папа Григорий VII и мн. др.) , в своих проповедях часто приводят легенды – и старые из различных церковных сборников, приспособляя их в интересах большей убедительности к потребностям своего времени, и вновь составленные, имевшие прямой интерес современности. Легенда служит у них в качестве аполога, с тем различием, что все сообщаемое в таком апологе и для самого проповедника и для его набожных слушателей имело значение реального факта, „видение“ в образах и гаданиях переводилось в действительность и давало посылки для таких или иных моральных выводов и, разумеется, последние получали тем большую убедительность, чем более подтверждавший их аполог-легенда обнаруживала черты живой современности.
Конечно, в таких случаях, когда легенда вводилась в проповедь с назидательной целию, она нимало не уклонялась от однажды данного ей направления, служила тем самым целям, которые так же отчасти указаны легендой „Диалогов“ св. Григория – поучению, назиданию, заставляя людей во всей наготе созерцать дурные и хорошие стороны их земной жизни и деятельности и чрез это „как бы подготовляя людей ко вступлению в Царство Божие“, потому что, как говорил знаменитый средневековой богослов-мистик Бернард Клервосский, „кто хочет созерцать величие Божие, тот должен иметь чистое и непорочное сердце, а это всего лучше может быть достигнуто чрез размышление о суде Божием, ожидающем грешных“ .... И действительно, нельзя сказать, чтобы средневековая легенда, и в ее народном, и в церковном употреблении, не имела этого в виду: она наводила людей простых и набожных на размышление о вечности и заставляла созерцать суд Божий над земною жизнию, а тем самым, может быть, заставляла их и в земной жизни быть несколько сдержанными в своих чувствах и страстях , умерять крайние проявления грубой силы, присутствие которой в средние века весьма ощутительно давало себя знать и в семье и в обществе. Но если в таком виде легенда до некоторой степени служила церковно-миссионерским целям, то, вслед затем, эта же самая легенда начала получать назначение или приспособляться к достижению таких целей, которые уже не могли иметь в виду одно лишь душеспасительное назидание или церковное поучение. Таковы именно те западный церковный легенды, которые имели такое или иное отношение к учению о чистилище, об индульгенциях и т. под.... Римско-католическое учение о чистилище находило прямое подтверждение у Григория Великого , но и у него, как мы видели, оно подтверждается легендой; после Григория В., .в VIII веке, Беда Достопочтенный новыми легендами дает большую определенность и большую распространенность этому учению . Вероятно, так же в VIII веке появляются и первые легенды о чистилище св. Патрика, в IX веке (самом обильном легендами) чистилище уже становится популярным, легенды об нем разносятся по всей Европе, и затем, позднее число их и их распространенность увеличиваются, так как в это время „от девятого до шестнадцатого века, действительно, может быть ни одна доктрина, как говорит Алджер, не была столько центральной, устойчивой и влиятельной в церковном учении и в практике, не обсуждалась столь широко и не производила столь сильного впечатления на христиан – как доктрина о чистилище и страх пред чистилищным огнем“ . Приходские клирики, монахи, аббаты разных монастырей повсюду разносили чудесные сказания о видениях загробных мук, об освобождениях из чистилища по молитвам таких-то и таких-то святых, за столько-то и за столько месс, отправленных в какой-нибудь церкви или монастыре, при мощах какого-нибудь святого и т. дал. Уже в IX веке император Карл Великий жаловался, что „епископы и аббаты обирают легковерный народ, застращивая его адскими муками и обольщая надеждой царства небесного“ (suadendo de coeleslis regni beatitudine, comminando de aeterno supplicio inferni»). Торговля индульгенциями была в полном ходу, важнейшие монашеские ордена, как напр. францисканцев и доминиканцев, соперничая между собою в привлечении толпы или, что тоже, в обогащении своих монастырей, пускали в обращение легенды, которыми, между прочим, „со всею очевидностию“ доказывалось, что члены их именно ордена на том свете удостоятся занимать места выше всех прочих. Собор Базельский признал справедливым притязание францисканских монахов, что будто основатель и глава их ордена (Франциск д’Ассизи, знаменитый монах-мистик) ежегодно сходит в чистилище и уводить оттуда на небо души всех, принадлежащих к их ордену . Теже францисканцы утверждали, что достаточно войти в их церковь Notre-Dame des Agnes, близь Ассизи, „чтобы освободить душу из чистилища“ . Кармелиты заявляли, что Дева Мария являлась генералу их ордена Симеону Стокку и дала ему высокоторжественное обещание, что „все умирающие с кармелитским нарамником на своих плечах – будут несомненно освобождены от вечного осуждения“. Сами папы, допуская обширный торг индульгенциями, нередко открыто выступали на защиту разного рода легендарных выдумок относительно загробных видений (напр. папа Бенедикт XIV) ...
Какую же судьбу имела старая церковная легенда о загробной жизни, в виду такого, весьма нередко крайнего злоупотребления эсхатологической доктриной со стороны духовенства, особенно монахов? Понятно само собою, что в их руках церковная легенда получала важное значение, и в частности это значение должно было выпадать именно на долю легенд св. Григория, как в своем роде безусловно авторитетных и необыкновенно популярных, как таких, на которые часто делались ссылки и в частных монашеских беседах, и в проповедях к народу, в непосредственных сношениях с толпой и в церковных книгах. Легенды св. Григория переделывались или служили образцами для новых легенд, как и в вышеприведенных случаях. На этот раз, к разъяснению их судьбы могут служить из средневековой церковной литературы следующее два, довольно интересные памятника: „Liber visionum tum suarum, tum aliarura“, монаха XI в. Отлона и «Легенда на день поминовения усопших“ в „Legenda Aurea“ Иакова Воражине (ХIII в.) – первая составлена, как заявляет сам автор, „в подражание четвертой книге „Диалогов“ св. Григория“, вторая между прочим интересна в том отношении, что она предлагает довольно полное собрание различных эсхатологических представлений средних веков, с указанием главнейших легенд, причем имя св. Григория приводится несколько раз и несколько раз делаются прямые указания на его «Диалоги». Мы позволим себе войти в некоторые подробности и относительно „Книги Видений“ и относительно „Легенды“ Воражине.
Так воспроизводит или, вернее, переделывает монах XI в. легенды св. Григория, задавшись целию чисто поучительной, и мы можем видеть из его труда, как в самом деле удобно было, просто по одному желанию сообщить легенде такое или иное направление, вводить в нее самые разнородные вопросы, нимало, по-видимому, не отступая от древнейшего церковного источника и не опасаясь погрешить против церковной веры в загробное воздаяние. Эта сторона занимающего нас вопроса представляется еще яснее в указанной легенде Иакова Воражине. Вот эта легенда в кратком пересказе по французскому переводу Бруне (латинского текста «Legenda Aurea», изд. Grässe, у нас нет под руками) . „Поминовение усопших верных, говорится в легенде, установлено церковью для того, чтобы общими молитвами всех верующих послужить спасению тех усопших душ, которые лишены пособия частных молитв (по неимению родственников и друзей), и установлено по следующему поводу . Как сообщает Петр Дамиан, св. Одилон, аббат Клюньи, однажды узнал, что в Сицилии вблизи вулканов часто раздаются крики и завывания демонов, кричащих о том, что молитвами и раздаянием милостыни из их рук исхищаются души усопших людей, – узнавши это, он установил, чтобы во всех подведомственных ему монастырях совершалось, после праздника всех святых, поминовение усопших, и вся церковь приняла его установление ... Души тех, которые не удовлетворили правде Божией, говорится далее в легенде, на время подвергаются мучениям в особом месте, которое называется „Чистилищем“ и которое, по мнению одних ученых людей, находится будто бы подле ада, а по мнению других – в воздухе или „в жарком поясе“ (zone lorride), но где бы оно ни было, божественное правосудие назначает неодинаковые места наказания различным душам... Св. Григорий говорит, что души, отданные на мучение, заключены в темных, недоступных местах, но что умершие могут извещать живых о своих страданиях и просить их молитв, которыми можно ослабить и сократить их страданья“. Как бы в подтверждение этих общих мыслей о чистилище, Иаков Воражине приводит следующую легенду, довольно любопытную в некоторых отношениях, но вместе с тем и весьма странную: „Однажды осенью, говорит он, рыбаки вытащили в сетях кусок льда и отнесли его к епископу Теобальду, который в то время сильно болел ногами, но когда принесенный кусок льда приложили к его ногам, он тотчас же ощутил значительное облегчение. К изумленно, из куска льда послышался голос, который на вопрос епископа ответил: я душа, заключенная в этой ледяной темнице за мои грехи, но я могу получить свободу, если ты отслужишь для меня тридцать месс, последовательно одну за другою в течении тридцати дней, без перерыву“. Епископ исполнили просьбу несчастной души и когда уже прочитал половину назначенного числа месс, жители того города, в котором он находился, произвели междуусобную брань (по внушению дьявола), епископ призван был умиротворить враждующих, сложил с себя священные одежды и в этот день не успел уже отправить ни одной мессы. Нужно было начинать снова, но затем опять такой же перерыв, и когда наконец в третий раз он начал читать мессы, прочитал больше половины и готовился уже начать последнюю – его извещают, что город горит и его собственный дом в пламени: на этот раз епископ не поддался искушению, окончил мессу, и тогда кусок льда растаял, пожара как не бывало и вообще все случившееся оказалось злостным ухищрением дьявола“... Говоря дальше о возможности прямых общений между живым миром и людьми усопшими, автор тотчас же приводит новую легенду: „Известный философ Silo настоятельно просил одного из своих учеников, лежавшего при смерти, возвратиться к нему после смерти и рассказать, в каком подожении он будет находиться“. Ученик исполнил просьбу, явился к нему: „на его плечах была накинута мантия, снаружи вся исписанная различными надписями, а с внутренней стороны „как бы подбитая пламенем (etait comme doublé de flamme)“, и он сказал: „эта мания так тяжело давит меня, как будто целая башня опустилась на мое тело, – я осужден носить ее, потому что при жизни любил блистать тонкой игрой логической аргументации, а пламя, служащее подкладкой моей мании, жжет меня за то, что я любил одеваться в самые дорогие одежды“. Silo, таким образом, лично уверившись в тяжести наказаний, ожидающих грешников, покинул мир и удалился в монастырь.... „Бл. Августин, говорить далее Иаков Воражине, учит, что души подвергаются наказанию в тех местах, в которых они согрешили, а св. Григорий подтверждает это примером“: тотчас же и приводится, как примерь, легенда из „Диалогов“ Григория, но в подтверждение уже другой мысли – о необходимости заботиться об умерших их оставшимся родственникам и друзьям, – на ряду с легендами из „ Диалогов“ приводится легенда Петра Клюньи на тему о важности заупокойных месс и молитв за усопших, потом на ту же тему нисколько легенд тёмного и очевидно позднейшего происхождения (по характеру – совершенно баснословных), наконец легенда из пресловутого псевдо-Турпина, мнимого биографа Карла Великого, легенда на тему о том, что поручения умирающих непременно должны быть исполняемы, „из опасения, чтобы не случилось того, что случилось однажды“, говорит автор, и приводит легенду о похищении демонами души одного человека, не исполнившего просьбы рыцаря, убитого на войне... Мы воздерживаемся от передачи всех легенд, потому что и сделанных указаний достаточно, чтобы показать, какое значение получают легенды «Диалогов» Григория В. в числе прочих средневековых легенд, когда этим последним давалось известного рода тенденциозное направление, не стеснявшееся внесением в легенду самых невероятных, фантастических подробностей, и когда от старой церковной легенды, собственно говоря, оставалась одна лишь форма, дозволявшая усвоить ей такое или иное содержание. Но если и у церковных писателей старая церковная легенда получала такое применение, извращалась, становилась вульгарной и все более и более невероятной, то что же сказать о тех случаях, когда легендой пользовались в обращениях с толпой, с народом, пользовались люди, которым книги, в роде произведения монаха Отлона и легенд Воражине, приходились особенно по вкусу, которые знали наизусть десятки таких книг и которые, с другой стороны, вообще мало стеснялись чем бы то нибыло, лишь бы достигнуть своих целей? Ответь простой: указанные факты относительно доминиканцев, францисканцев и т. д. были в порядке вещей, – для их легенд имелись готовые образцы в книгах, у писателей в роде Отлона, Воражине и т. д., руководившихся в своей работе таким несомненно-авторитетным церковным источником, как „Диалоги“ . Но приэтом необходимо конечно иметь в виду, что легенда никогда не получила бы того применения, какое мы указали, ни в книге, ни в церковно-общественной практике, и никогда не удалось бы монахам с помощию легенд повелевать умами и приобретать богатства, если бы положение церкви в средние века не было столько „всесильным“ и если бы средневековое общество и государство не находились так много под давлением того общего невежества, которое легко верит всему, и под обаянием того щемящего страха, в виду различных общественных бедствий и нестроений, который легко создает привидения и заставляет людей трепетать за их настоящее и будущее. „Церковь, логическими тонкостями своих схоластических теологов, убедительным красноречием народных проповедников, безотчетным увлечением ее фанатических поклонников, торжественными заявлениями о ее бесчисленных чудесах, поразительными церемониями ее драматического ритуала, церковь внедряла идеи своей основной системы в умы, в сердца, в фантазии народа и держала всех в постоянном страхе“.... Вместе с тем, „сильный толчок, оживлявший и усиливавший эсхатологические представления тех веков – толчок, влияние которого долго не прекращалось – был дан страшным, эпидемическим ожиданием близкого конца мира, которое около 1000 года почти всюду преобладало в христианских землях. Случалось даже, что оффициальные хартии того времени начинались словами: „так как мир теперь близится к концу“.... Ожидание конца мира еще более усиливалось под влиянием невыразимых общественных бедствий – голода, моровой язвы, войн, суеверия. „Идея о конце мира, печальная, как печальна была вся земная жизнь, говорить Мишле, служила надеждой и ужасом средних веков. Посмотрите на эти старинные статуи десятого и одиннадцатого веков – немые, исхудалые, на их искривленные черты лица, с выражением живых страданий, соединенных с предсмертными конвульсиями, посмотрите, как они умоляют о наступлении той желанной, но вместе и той страшной минуты, когда последний день суда Господня освободить их от всех печалей и возвратит от ничтожества к бытию, из гроба к Богу“. „Средние века – века чудес, романтики, страха.... Повествования отшельников, чудеса в монашеских келиях, видения столпников, трепетное возбуждение, сопровождавшее крестовые походы и другие подобные влияния делали мир беспрерывным миражем. Извержения вулканов считались делом беспокойного ада, демоны были подле каждого человека, ночные привидения появлялись в каждом местечке. Гунны, при Аттиле опустошившие Южную Европу, считались в буквальном смысле детьми ада, вырвавшимися наружу из адской пропасти. Каждый метафизик находился в опасности прослыть за еретика, натур-философ – за мага. Вера в магию и колдовство была всеобщей“ ....
Вот в каких условиях церковно-общественной жизни средневековая церковная легенда получила то значение, какое мы указали, и если действительно были злоупотребления ею, то они являлись неизбежно, как дозволенный общественными настроением, как явления, вызванные общей средневековой культурой: легенда отвечала запросами времени, находила опору в теологии, была наконец слишком выгодна для того, чтобы могла оставаться в форме простого рассказа, душеспасительного и назидательного для людей набожных. Она могла быть и душеспасительной и полезной для духовенства в видах распространения таких или иных доктрин с тенденциями иногда не совсем похвального свойства. Такова, как мы видели, она была и на самом деле.
Такими образом, в результате предложенного нами обозрения средневековых легенд, их отношение к „Диалогам“ Григория Великого представляется в следующем виде: эсхатологические идеи св. Григория и его легенды в течении всех средних веков оставались в качестве авторитетного и весьма популярного источника, – средневековая легенда, обогащаясь в своем содержании заимствованиями из различных христианских и не христианских источников, по форме следует образцам, данным в „Диалогах“ св. Григория, развивает его идеи, проводит далее то поучительное и вместе тенденциозное направление, которое замечается уже в его легендах – то протестует против отдельных личностей и явлений враждебных церкви, против явлений церковно-общественной жизни, то поучает, назидает, то наконец приспособляется исключительно для распространения таких эсхатологических доктрин католической церкви, которые были выгодны для влияния и обогащения – выгодны для духовенства.
В заключение, позволим себе сообщить одну из церковно- славянских легенд, которая показывает, что и в древне-русской церковной литературе легенды „Диалогов Григория Великого до некоторой степени имели такое же влияние, как и в западноевропейской. В житии Пафнутия Боровского (ум. в 1478 г.), по рукописи Новгор. Соф. библиотеки, XVII века (V 1857 лист. 21 и след.), находится следующий рассказ.
Случился общий „мор“, во время которого одна „монахиня“ умерла и потом „помале возвратися“ рассказала, что она видела в загробном мире. В раю она встретила великого князя Иоанна Даниловича, умершего в 6849 г. (1345), потом, „изшед оттуду (из рая) и места мучения не дошед и виде одр и на нем пса лежаща одеяна шубою събольею. Она же вопроси водящего ея, глаголя: си что есть сиe. Он же рече: се есть щербетник агарянин милостивый добродетеленый, и неизреченныя ради его милостыни избави его от мукы; а яко не потщася стяжати истинную веру христианскую и не породися водою и духом, не достоин есть внити в рай, по господню словеси: кто не родится водою п духом не внидет в царствие небесное. Толико же бе милостив, всех искупуя от всякия беды и от долгу искупаше, и по ордам посыла и пленныя христианы искупуя пущаше, и неточию человеки, но и птица от уловивших искупуя пущаше. Показа же Господь по человеческому обучаю зловерия ради его в песием образе, милостыни же честное многоценною шубою объяви, его же покрываем избавление вечныя мукы назнаменова. Тамо убо неверных душа не в песием образе будут, ниже шубами покрываются, но яко же рех (sic) псом зловерие его объявив, шубою же честное (sic) милостыню. Виждь ми величество милости яко неверным помогает. Потом же веде ея в место мучения и многи виде тамо вмуках, их же сложиша по житию их и обретеся истина.... Виде тамо в огии человека велика суща в здешней славе, латынския веры суща, именем Витовта Краля, и мурина страшна стояща и емлюща клещами из огня златица, и в рот мечуща ему и глаголюще сице: насытися окаянне. И другаго человека, в сей жизни прозванием Петеля, иже у велика зело и славна человека любим быст и от таковы притча (sic) неправедно стяжа множество богатства: и того видя нага и огоревша яко главню и носящи обоими горстми златица и всем глаголаша: възмите, взмите И никто же рачаше взяти. И cия показана бысть человеческим обычаем, яко неправды ради и лихоимства и сребролюбия и немилосердия таково осуждение прия. Тамо бо осуждении не имут ни златиц, ни сребрениц и даем никто же требует их взяти, по показа Господь тех образом чесо ради осуждени быша, не точию тех, но и добродетели прилежащих телесным образом показует чесо ради спасени быша“ (Лист. 22 об. и 23).
„Приведен бе к реце огненней, а на другой стороне рекы место злачно и светло зело и различным садовием украшено; не могущу же ему прейти чудное то место, страшныя ради рекы и се внезапу преидоша нищих множество и пред ногами его начашася класти поряду, и сътворша яко мост чрез страшную ону реку. Он же прейде по них в чудное то место. Можаше бо и без мосту превести реку ону; пишет бо о Лазаре: несен ангелы на лоно Авраамле. Аще и пропасть бе велика промеж праведных и грешных и нетребова мосту на прешествие, но нашея ради ползы таковым показа осуждение грешным и спасение праведнаго.... Подобно тому и в беседах Григория Двоесловца писано: чрез реку огненну мост, а на нем искус; грешнии же в том искусе удержани бываху от бесов и в огненну реку пометаемы, а на той стороне реки тако же место чудно и всякими добротами украшено. Праведнии же неудержани бывают тем искусом, но многим дерзновением преходят чудное то место. И ина многа написано о праведных и грешных по человеческому обычаю показаемо“... (лист. 23).
В жизнеописании Benois St. Maur’a, у Иакова Воражине, находится следующей рассказ, иллюстрирующий это MECTO Диалогов в духе средневекового исскуства: час кончины Benois был открыт двум братъам (монахам), которые, находясь в отдельных кельях, одновременно увидели «лестницу, покрытую богатыми коврами и освещенную множеством светильников; лестница направлялась от кельи Бенуа к небу, в сторону востока, – затем появился человек, одетый в блестящее одеяние и возвестила им, что этим путем восходит на небо душа возлюбленного Божия». La Legende dorée, tom. 2 p. 60; cp. Migne, Dictionaire des Legendes du Christianisme, col. 271.
Omnes vero fratres qui aderant ex ore ejus exisse columbam viederunt, quae mox aperto tecto oratorii egressa, aspicientibus fratribus penetravit coelum. Cujus idcirco animam in columbae specie apparuisse credendum est, ut omnipotens Deus ex hac ipsa specie ostenderet quam simplici corde ei vir ille servisset (Cap. X, col. 336). Представление души, исходящей из тела, под видом отлетающей птицы (голубя или какой-либо другой) – весьма распространенное у различных народов; оно напр. было известно у Египтян: на египетских похоронных памятниках часто встречаются фигуры птпчек, вылетающих из уст мумии –см. Rouge, Ritual funer. plan. Ш, – на похоронных памятниках Этрусков, Греков и Римлян, затем въ древне-христанской живописи это один из обычных символов перехода души в вечность – см. Pitra, Spicileg. Solesm. t. II p. 384; cp. Фрикэн, Катакомбы и пр. 1877 г. вып. I стр. 58 и 60. Такъ же часто это представление встречается и въ хрнстианскихъ легендах: о св. Поликарпе существует предание (усвоенное легендой) что из костра, на котором он былъ сожжон, вылетел голубок; такое же предание о св. Евлалии, о св. Христине и т. д. См. Acta Sanct. regist. sub voce Columba, Legende dorée, passim; также, Paulin. Nolan. Epist. 10; Cl. Aur. Prudent. Peristeph. III, 161; 521; VI, 7 и мн. др. – Заметим, между прочим, что в поэтических преданиях славяийких народов голубок имеет точно такое же значение – служит символом души, отходящей в вечиость. См. Fridreich, Symbolik und Mythol. d. Natur, Würzb. 1839 стр. 558.
Ср. гл. ХII: умирающему епископу являются с сияющим лицом св. мученики Ювеналий и Элевферий, гл XIII и XVI: умирающей праведнице является сам Иисус Хр., – гл. XVII: является Матерь Б. и т.д. Мы позволим себе привести только следующий довольно любопытный пример из наших славянских рукописей: в «Сказании св. Пахомия о Среде и Пятнице» (Новг. Соф. библ. № 1444 л. 354 об., рук. XVIв.) говорится, что Пахомий встретил однажды похоронное шествие и позади гроба двух светозарных ангелов, которые сказали ему, что один из них – «ангел Среда», а другой – «Пятница», и что они провожают умершего, потому что он во время жизни соблюдал строжайший пост в среду и пятницу…
Ср. сар. XV: de transit Romulae ancillae Dei: при ее отходе необыкновенный блеск осветил келию, послышалось пение ангельских хоров, распространилось необыкновенное благоухание и пр. – Migne, col. 344 – 345; Greg. M. Homil.15. В «Люцидарие», представляющем род средневековой народной энциклопедии (приписывается Гонорию Отенскому XII в.) и, подобно легендам Воражине, также весьма популярном в средние века (был известен и в славянских переводах – см. первую часть «Люцидария» изд. Тихонравовым в «Лет. Рус. Литер.» Т. I, 1859г.), говорится почти буквально теми же словами, как и у Григория Великого : «ita cum Justus in extremis agit, angelus sui custos cum multitudine angelorum venit, et animam ejus sponsam Christi de cfrcere corporis tollit, et cum maximo dulcissimae melodiae cantu, et immense umine, ac svavissimo odore, ad celeste perducit palacium, in spiritualem paradisum.» Elucidarium sive Dial. De summa totius Christ. Theol., Migne, Patrol. Series latin. tom. 172 col. 1157. – В лицевой славянской рукописи XVII в. (Новг. Соф. библ. № 1430) об исходе души говорится: «возгласи же Михаил гласом велиим рече: Господи, что повелиши о душе сей, понеже не хощет изыти. Приидет же им (Михаилу и Гавриилу) глас глаголя: се посылаю Давида с гусльми и вся поющая, и изыдет с радостию, вы же не нудите сию. И се внезапу приидоша в дом неции краснии мужие, и начаша пение красное зело. И сия слышавши душа от радости изыдет истела и приидет на руце Михаилу. И поем же сию взыдоша на небеса радующеся» (к тексту приложено изображение Давида с гуслями, подле одра умирающего). Это место из нашей рукописи (ср. также Буслаев, Истор. Очер. Р. Нар. Слов. Т. II, стр. 152 – 153) отлично иллюстрирует приведенный рассказ св. Григория и может служить образчиком множества подобных же рассказов, как в наших славянских, так и в западных средневековых сборниках легенд, – на этот раз представления, а вместе с тем и поэтические образы были одни и те же у нас и на Западе.
«Mauri (греч. …) homines venerunt, qui me tollere volunt» (Cap. XVIII, col. 349). В другом месте «nigerrimi spiritus … черные духи» – cap. 38, col. 392. У древних церковных писателей нередко встречается представление злых духов в виде черных людей, эфиопов или мавров, – см. напр. Апокрифические Акты ап. Андрея, Migne, Dictionare des Apocriphes, t. II col. 78. В славянских рукописях оч. часто относительно умирающих говорится, что их окружили «Мурини страшнии»; мурини, очевидно, перевод греч. …, так как это выражение встречается в такой несомненно русской статье, автор которой пользовался греческим текстом «Диалогов» Григория В. – см. Новг. соф. библ. № 1357 л. 22, – другое равнозначащее с этим выражение в славянских рукописях – «человеки имущи лица паче смолы» – Новг. библ. № 1450 лист. 307. – О явлении умирающему злых духов и борьбе их с ангелами см. Migne, Dictionare des Apocriphes, t. II col. 623; Порфирьев, Апокр. сказан. о ветхозав. Лицах, Каз. 1873 г. стр. 294. Мысль о явлении умирающему злых духов встречается у древнейших отцов церкви, см. напр. Iust. Mart. Dialog. cum. Truphon. cap. 105 (Migne, Patrol. Series graeca, tom. VI, col. 721); Quaest. Et Respons. Ad orthodox., Quaest. 75 (Migne, ibid. col. 1317) и др. В «Люцидарие» об исходе души нечестивого опять говорится почти теми же словами, как у Григория Великого
Таким он представляется в знаменитой средневековой легенде «О св. Григорие и об императоре Трояне» (об освобождении его от вечных мучений по молитве св. Григория) – у Иоанна дьякона, Acta Sanct. lib. cit, cap. 5. В «Legenda Aurea» легенда о Трояне рассказана с большими подробностями – см. cap. 46. Недоверчивые баллиндисты делают следующее примечание к рассказу Иоанна дьякона: «Может быть св. Григорий видел картину, изображавшую Трояна и картиной был наведен на мысль об нем, может быть знал легенду об нем и увидел его во сне» и т. д., lib. cit. pag. 137. – Данте, следуя своему главному руководителю в богословии Фоме Аквинату (см. La-bitte, Etudes littéraires, t. I, p. 213), считал великой победой св. Григория – «sua gran vittoria» – спасете Трояна, и отводит последнему в своей «Божественной комедии» место в раю – см. Чисти., пес. 10 ст. 73 – 75, песн. 20 В церковной живописи этот рассказ также был весьма популярен. Wessley Iconographie и пр. стр. 211.
Христианство , дозволяли миссионерам «не касаться» многих народных языческих обрядов я поверий, или только придавать им xpиcтианский смысл: см. Gregor. Mag. Epistol. 76 lib. II (цитата приведена вполне у Maury, Fées du Moyen-Age, pag. 17, примеч., но в изд. Миня я не нашел этого места); ср. Augnst, Epistol. 155; Beda Venerabil. Histor. eccles. Angi. I, 30. Таким образом, то, что в недавнее время практиковалось римскими миссионерами (иезуитами) в Китае, давно уже было освящено примером и словом римских первосвященников.
См. недавнее сочинение Кондакова, «Истортя византийской миньятюры», отзыв о котором был сделан нами въ № 16 «Цсрк. В.» за 1877 год.
В виду этого, совершенно понятно то необыкновенно-глубокое чувство любви н идеальной преданности, с какою относился к Виргилию «величайший» из итальянских поэтов –Данте – «к своему, как он говорит, путеводителю, повелителю и наставнику: «tu duca, tu signore et tu maestro...», говорит он об нем в Infern., canto 2, ст. 140.
На основании известного места его Bucol. Eclog. IV, 4 – 9:
Ultima Cumsei venit jam carminis aetas;
Magnus ab integro sseclorum nascitur ordo.
Jam redit et virgo, redeunt saturnia regna:
Jam nova progenies coelo demittitur altro и up.
В церквах Мантуи (родина Виргилия) в средние века пели трогательный
гимнъ, в котором апостол Павел был представлен посетившим гробницу Виргилия в Неаполе и горько плакавшим о том, что слишком поздно для великого поэта-язычника он пришел с своею христианскою проповедью – Ozanam, Dante et la philosophie catholique au ХШ siècle (изд. 1845 г.) стр. 397.
Августин, 1ероним, Амвросий и т. д. до Исидора Севильского и средневековых схоластиков – см. Ad. Ebert, Geschichte der Christlich-lateinischen Literatur von ihren Anfängen и np. 1874 г. стр. 113; 120; 156; 191; 204; 330, 412; 453 – 457; 559 и др. – Без сомнения, если бы церковные писатели имели свой взгляд по этому вопросу, то едва ли возможно было напр. в VIII в. такое суждение о значении классической литературы для изучения христианского богословия, какое современники приписывают знаменитому немецкому императору Карлу В.: «literarum studia non Solum non negligere, говорив он, verum etiam humillima et Deo placita intentione ad hoc certatim discere, ut facilius et rectius divinarum scripturarum mysteria penetrare...» H. Reuter, Geschichte d. religiös. Aufklärung im Mittelalt. 1875, стр. 6 и 264 (примечание 21).
Так напр. и легенда об Орфее давала сюжеты для западных народных баллад: ср. англо-саксонскую народную балладу «Orfeo and Herodys» у Wright"a; St. Patriks Purgatory, 1884 г. стр. 41– 45. Заметим, между прочим, что еще раньше Боэция некоторые западные церковные писатели пользовались аллегорическим толкованием древне-классических мифов: первые по времени труды в этом роде были произведения Фульгенция (конца V века), из числа которых особенно замечательны его толкования на Энеиду Виргилия («Virgiliana Continentia»), где он излагает в мистико-аллегорическом смысле главным образом шестую книгу Энеиды, касающуюся языческих загробных верований. В последствии, в средние века, мистико-аллегорическое толкование мифов сделалось общим у западных писателей, и Эберт справедливо замечает, что «таким способом (т.е. подобным обращением с мифами) античная мифология была спасена для средних веков» (Ebert, в указ. сочин. стр. 458), хотя без сомнения не мало было и других условий, способствовавших сохранению и распространению на западе мифологических преданий древности.
Вопрос этот очень обширен и мы касаемся его только стороной, а потому оставляем до другого раза многочисленные литературные факты, которыми подтверждается высказанная нами мысль. Из числа средневековых легенд можно было бы указать ъ этом случае – «Visio Tundali» (1149), существующее в особой латинской книжке и рассказанное у Викентия Бове: Specul. histor. lib. XXVI cap. 88 и сл., Видение Турсила (Thursill) XI в., в хронике Матфея Парижского под 1206 г. и мн. др. см. Wright, S. Patriks Purgatory, стр. 32 – 37; 41 – 45.
Озанам въ числе источников «Божественной комедии» отпечатал эту легенду в французской редакции ХIII века: «Vision de Saint Paul» – Dante et la Philosophie catholique, pag. 424 – 437. Авторы средневековых легенд нередко ссылаются на «Видение св. Павла», как на древнейший христианский
Григор Нарекаци
Книга скорбных песнопений
(перевод Маргариты Дарбинян-Меликян и Лены Ханларян)
5 ... Роскошь узора и глубины сердца:
От редакции:
поэзия Григора Нарекаци
Данная вступительная статья к книге великого армянского инока "певца покаяния" Григора Нарекаци написана неправославным неверующим учёным С. Аверинцевым, называющим православных верующих "халкидонитами" и "диофизитами". Тем не менее, мы приводим эту статью ради содержащегося в ней доказательства того, что преподобный Григор Нарекаци не следовал еретической пагубе монофизитства, но пребывал в чистоте православной веры.Не страшись моих золотых риз, не пугайся блистания моих свечей,
Ибо они лишь покров над моей любовью, лишь щадящие руки над моей тайной.
Я выросла у древа позора, я упоена крепким вином слез,
Я жизнь из муки, я сила из муки, я слава из муки,
Приди к моей душе и знай, что ты пришел к себе.
G. von le Fort, Passion, 1Место «Книги скорбных песнопений» Григора из Нарека не только в традиционной армянской культуре, но и во всей традиционной армянской жизни не с чем сравнить. «Книгу» переписывали из столетия в столетие, стремились иметь чуть ли не в каждом доме. Целый народ принял поэзию Нарекаци к сердцу. Ее благое действие представало в умах простых людей распространившимся из области духовного на область материального; если от текстов ожидали врачевания человеческой души, то в вещественности рукописи искали исцеления для недужного человеческого тела ее можно было подложить под голову больному.
Способным понять, пожалеть и помочь в житейской беде, совсем «своим» таким представлялся из века в век Нарекаци армянскому народу. Гений редко бывает также и святым (самый несомненный пример Августин); но гений и святой в одном лице, про заступничество которого рассказывали бы в народе такие мягкие по тембру легенды, какие связывает армянская агиография с именем Григора, это, кажется, единственный в своем роде случай.
А в фольклоре складывается рассказ о том, как Нарекаци в действительности ученый монах, вардапет, книжник и сын книжника семь лет нес смиренную службу пастуха, ни разу не осердившись на скотину, не хлестнув ее и не обидев злым словом. «Блажен муж, иже и скоты милует». Выдержав испытание, он воткнул прут, которым ни разу не была бита ни одна живая тварь, в землю посреди деревни, и прут превратился в куст, напоминающий людям о красоте милости и о славе Нарекаци. Народные итальянские легенды о Франциске Ассизском называются «цветочками». Вокруг имени вардапета Григора из Нарека тоже выросли свои «фьоретти».
Образ поэта мы видим прежде всего в зеркале легенды. А что знает о нем история?
Время жизни Григора Нарекаци приходится на вторую половину X первые годы XI в. Это эпоха Багратидов эпилог «золотого века» Армении. После смерти в 928 г. Ашота II Железного, отстоявшего в войнах с арабами независимость Армении, наступила мирная пора, много давшая культурному развитию. Любитель армянского искусства вспомнит, что при жизни Нарекаци явилась на свет царственная роскошь миниатюр Эчмиадзинского евангелия 989 г. Зодчий Трдат, построивший в городе Ани, столице Багратидов, кафедральный собор и церковь Гагикашен, тоже современник поэта. Как это обычно для средневековья, углубление духовной культуры, самосознание личности, возросшая чуткость души к самой себе направляются в аскетическое русло. Людей перестает удовлетворять внешняя сторона религии. Одни порывают с церковью и уходят в ересь: фон эпохи сильное антицерковное движение тондракитов. Другие ищут более внутренние и духовные стороны христианского идеала, стремятся построить за стенами монастырей иную, праведную жизнь: на армянской земле во множестве вырастают обители, это тоже черта времени. И Санаин, и Ахпат, а среди менее известных Нарек, где провел свою жизнь поэт, возникли именно в X в. Воздух эпохи насыщен богословскими спорами: монофизиты, ревнители местной армянской традиции, ведут резкую полемику против диофизитов, разделяющих доктрину византийского православия, те и другие предают анафеме народное еретичество тондракитов, и вероучительные разногласия, как всегда, переплетаются с политическими и общественными конфликтами.
Биография поэта сложилась таким образом, что ему пришлось знать об этих спорах куда больше, чем ему хотелось бы. Его отцом был ученый богослов Хосров Андзеваци, занимавшийся интерпретацией литургической символики; впоследствии, овдовев или разлучившись со своей женой, Хосров стал епископом, однако на старости лет был обвинен в ереси и отлучен от церкви. К тому же кругу принадлежал и связанный с Хосровом узами кумовства учитедь Григора и настоятель Нарекского монастыря Анания Нарекаци, прославленный вардапет, автор аскетических поучений, сами темы которых слезный дар, отрешение мыслей от всего земного характерны для новой духовности эпохи. Возможно, его тоже подозревали в неправоверии; есть глухое сообщение, что он не хотел проклясть тондракитов (против которых, однако же, написал полемический трактат), но сделал это перед смертью, повинуясь прямому повелению католикоса. Наконец, подозрения не пощадили и самого Нарекаци. Житийная традиция повествует, что его уже звали на церковный суд и оградило его только чудо: он позвал посланных за ним к столу и, вопреки всем своим аскетическим обыкновениям, подал жареных голубей, а когда гости напомнили, что день постный, на глазах у них воскресил голубей и отослал обратно в стаю.
Что стоит за таким рассказом? Неоднократно высказывавшееся мнение, согласно которому поэт был тайным тондракитом, едва ли достаточно обосновано. Источники дают не меньше, а, пожалуй, больше оснований считать виднейшего византийского богослова XIV в. Григория Паламу тайным богомилом, однако ни один византинист этого делать не будет. Во-первых, приводимые традицией бранные слова, которые говорились обвинителями по адресу Нарекаци, предполагают подозрение не в тондракитстве, а в диофизитстве или по крайней мере в терпимости к диофизитам. Например, его называли «ромеем и вероотступником», т. е. единоверцем византийской церкви. Автор жития подчеркивает примирительную позицию Григора в конфессиональной распре. «... Между епископами и вардапетами шла распря по различным вопросам в делах халкидонитов (то есть диофизитов). А блаженный Григор, верно поняв, что это есть бесполезная и пагубная церковная смута, в которой при разномыслии повреждалась здравость учения, увещевал всех быть кроткими душою и миролюбцами, пребывать в любви и единодушии». Во-вторых, известно, что Нарекаци по примеру своего учителя Анании написал полемическое сочинение против тондракитов. Представить себе, что оба они сделали это, стремясь отвести от себя опасное обвинение, значит заподозрить их в двоедушии, в отказе от своих истинных взглядов, т. е. в таком образе действий, который жестокие обстоятельства могут сделать понятным, но ничто не может сделать похвальным. По всему, что мы знаем о Нарекаци, это на него непохоже. В основе его поэзии не может лежать душевная раздвоенность отступника, спасающего свою жизнь. Тондракитскую гипотезу лучше отложить до тех пор, пока не найдутся очень сильные доводы в ее пользу.
И все же сведения о наветах против церковной репутации вардапета Григора важны. Во-первых, мы узнаем, что Нарекаци, будучи монахом и верующим членом церкви, не был духовным конформистом. Вдохновлявший его (и, по-видимому, его учителя Ананию) энтузиазм аскета, устремленный на возрождение христианского идеала, в реальной ситуации его времени противостоял инерции бездуховного обрядоверия и механического поклонения авторитету. Как говорит минейная заметка, «порядки святой церкви, искаженные и позабытые по причине ленивых и плотолюбивых пастырей духовных, он желал утвердить и восстановить»; немедленно после этого отмечается понятное недовольство «ленивых и плотолюбивых», едва не приведшее к расправе над поэтом. Если Нарекаци и не был тондракитом, а был, напротив того, оппонентом тондракитской доктрины, он должен был хорошо понимать чувства людей, искавших правды в еретичестве. Отношение Нарекаци к тондракитам типологически сопоставимо с отношением. Франциска к вальденсам, Григория Паламы к богомилам или Нила Сорского к стригольникам.
Во-вторых, мы узнаем, что Нарекаци, будучи ревностным аскетом и мистиком, не был фанатиком и не разделял страсти своих современников к расправе над инакомыслящими, но призывал к примирению, отлично зная, что ставит этим под удар самого себя. Похоже на то, что миролюбие тоже было унаследовано им у его многоученого наставника; возможно, нежелание Анании проклясть тондракитов свидетельствует о принципиальной позиции в вопросе отношения к еретикам, аналогичной позиции русских нестяжателей в их споре с иосифлянами.
Мы знаем, что в средние века не всякий, кого не привлекало занятие охотника на еретиков, непременно сам был еретиком или хотя бы сочувствовал еретической доктрине; встречались, хотя бы в меньшинстве, люди, искренне принимавшие догматы церкви как истину, но не принимавшие насилия как метода борьбы за эту истину и советовавшие оставлять спорные вопросы до суда Божия. Еще Исаак Ниневийский, сирийский отшельник VII в., учил иметь «сердце милующее», которое «не может вынести или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварию», а потому со слезами молится, между прочим, и «о врагах истины», т. е. о неверных и еретиках; такое расположение сердца, приближающее, по словам Исаака, к Богу, явно препятствует тому, чтобы с легким чувством предавать инакомыслящих проклятию. И позднее некоторые учители церкви полагали, что проклинать заблуждающихся занятие не совсем христианское («... не достоит никого же ненавидети или осужати, ниже невернаго, ниже еретика»); другие подчеркивали, что это дело, во всяком случае, не монашеское («... аще и подобает судити и осужати еретики и отступники, но царем, и князем, и святителем, и судиям земьским, а не иноком, иже отрекошась мира и всех яже в мире, и подобает им точию себе внимати, и никого же не осужати...» . Такие люди были, конечно, и в Армении. Почему бы обоим инокам из Нарека не быть в их числе? Это похоже на то, что мы знаем о любимых темах Анании, так много писавшего о слезном даре. Это еще больше похоже на то, что мы знаем о душе Григора из его стихов. Не надо напоминать, что элементарный историзм возбраняет нам интерпретировать такую позицию в духе новоевропейских идеалов терпимости или свободомыслия. Скорее речь идет как в случаях с Франциском Ассизским, или Нилом Сорским, или творчеством Андрея Рублева о самом благородном варианте средневековой духовности.
Мы уже упоминали пристрастие житий Нарекаци к эпизоду вызова на церковный суд и чудесного воскрешения голубей; в остальном биографическое предание не богато подробностями. По-видимому, жизнь вардапета Григора прошла довольно тихо среди обычных монашеских занятий и литературных трудов. В 977 г. он написал толкование на библейскую «Песнь песней», как это делали Ориген и Григорий Нисский до него и Бернард Клервосский со своими последователями после него; тема очень характерна для средневековых мистиков, переносивших акцент с религии страха на религию любви. По преданию, этот груд был выполнен в ответ на просьбу Гургена, государя Васпуракана. Нарекаци принадлежат также похвальные слова Кресту, Деве Марии, святым, а также гимнографические сочинения в различных жанрах. Все это почтенные образцы средневековой армянской литературы. Но «Книгу скорбных песнопений», законченную около 1002 г., поэт написал для всех людей и на все времена. Именно она веками жила в памяти народа и будет жить во всемирной памяти культуры.
Шедевр Нарекаци это наиболее совершенное выражение в слове того духа, который вдохновлял старинных армянских зодчих, камнерезчиков, миниатюристов. За ним стоит особый, ни на что не похожий мир. Зрелость художественной воли, определившей облик «Книги скорбных песнопений», подготавливалась уже давно. За три с половиной столетия до поэтических плачей Нарекаци был задуман и выстроен Звартноц, поражающий наше воображение даже в руинах. Нигде не найти такой весомой, тяжкой, почти пугающей избыточности форм и образов, как та, которой отмечены капители Звартноца; но когда Нарекаци начинает развертывать свои метафоры, которым не предвидится конца и от которых захватывает дыхание, мощь не меньше и в логике замысла много общего.
Поэзия Нарекаци удостоверяет как своеобразие древнеармянской культуры, так и неповторимость поэтического гения самого Григора. Но историзм требует от нас, чтобы мы постарались видеть то и другое в универсальной, «вселенской» перспективе шутри того целого, которое называется литературой христианского средневековья.
Песни Нарекаци это «скорбные» песни, буквально «песни-плачи». О чем скорбит, о чем плачет поэт? О своем несовершенстве, о своей духовной расслабленности, немощи, бессилии теред суетой мира, об утраченном первородстве человека. Укоры самому себе постоянно готовы преобразоваться в сетование о грешном человечестве вообще, с которым Нарекаци ощущает себя тесно связанным круговой порукой вины и совести. Он просит у Бога прощения не для одного себя, но вместе с собою для всех людей:
Причислив себя к заслуживающим наказания,
Со всеми вместе молю о милосердии:
Вместе с униженными и с несмелыми...
Вместе с падшими и с презренными,
Вместе с изгнанными и с возвратившимися к Тебе,
Вместе с сомневающимися и с веренными,
Вместе с повергнутыми и с воскресшими...
(гл. 32, § 1)Исповедальные самообличения и плачи о своих грехах очень продуктивный жанр средневековой литературы; творчество в этом русле шло от установки., очень далекой от романтических или послеромантических представлений о самовыражающейся индивидуальности. Когда автор говорит нам: «я» страдаю и скорблю, «я» виновен и укоряю себя, его «я» обязано явиться таким, чтобы любой единоверный автору читатель или слушатель смог повторить каждую жалобу уже от своего имени, отождествив свое «я» с авторским «я» всецело и без оговорок. Повторим еще раз всецело и без оговорок; ибо и в тот способ восприятия, на который со времен романтизма обычно рассчитана так называемая исповедальная лирика, входит известная мера самоотождествления по формуле «вот и я такой», однако в соединении с пафосом дистанции «и я» уже значит «не он», «такой» уже значит «не тот же». Личность поэта от Байрона и Лермонтова до Цветаевой и Лорки мыслится как исключительная; созерцая ее в воображении, читатель соотносит с ней свою личность по тому же признаку исключительности («... как он, гонимый миром странник»), но личностное отношение не может быть отношение ем тождества («нет, я не Байрон, я другой...»). Когда Пушкин рассказывает о тех самых чувствах, которые были предметом поэзии Нарекаци:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю,описываемое переживание предстает как переживание поэта, или, что то же самое, «лирического героя»6; переживания читателя могут быть ему созвучны, но дистанция веб равно остается. Именно потому, что от поэта ждут слова о себе самом, и лишь опосредованно, через.его собственную индивидуальность, слово обо всех и за всех, биографические детали допускаются, даже приветствуются.
Слияние чувств поэта и читателя для молитв и покаянных плачей не парадоксальный и неожиданный результат противостояния двух индивидов, их диалектического контраста, но само собой разумеющееся задание. Здесь никто не удивится тому, как это поэт умудрился сказать обо всех и за всех; ничего иного и не предполагалось уже априорно. И вот еще важное различие: отождествляя свое «я» с «я» поэта, современный читатель как бы раздваивается внутренне на абсолютное «я», пригодное к такому отождествлению, и эмпирическое «я», заведомо отличное от лирического героя (причем последний не совпадает также и с эмпирическим «я» поэта, так что раздвоение проникает и в облик последнего); с духом средневековой аскетики подобная игровая установка несовместима. Здесь раздвоения и актерские переодевания не допускаются.
Это значит, что все приметы индивидуальной биографии должны быть либо устранены, либо обобщены до такой всечеловеческой парадигмы, в которой каждая деталь без остатка переработана в символ. Иначе не могла бы состояться процедура усвоения текста общиной, для жизненного обихода которой он создан. Процедура эта предполагала, что все члены общины могут «едиными устами и единым сердцем», как гласит одна литургическая формула, произнести текст как свое аутентичное коллективное высказывание, т. е. что каждый член общины применяет каждое слово к самому себе, и притом без всяких метафор и раздвоений, возможно более буквально; чем буквальнее, тем лучше. Когда, например, византиец присутствовал за великопостной службой при речитативном чтении «Великого канона» Андрея Критского, он мог иметь какие-то представления о биографии этого гимнографа более или менее реальные, почерпнутые из житийной литературы, или фантастические, почерпнутые из фольклорного предания, где святой выставляется неким новым Эдипом, но при каждом возгласе этого покаянного гимна ему предлагалось думать отнюдь не о грехах Андрея, а о своих собственных. Поэтому Андрей и не говорил ни о каких особых чертах индивидуальной греховности, но о греховности, так сказать, «человека вообще»; и так же поступал Нарекаци.
Пушкин мог дать в своих стихах петербургскую ночь как обстановку для покаянной бессонницы своего лирического героя, но для Нарекаци невозможно было дать почувствовать за своими стихами какой-либо характерный ландшафт, отличный от любого другого реального ландшафта, например ландшафт монастыря Нарек на берегу озера Ван, где прошла его жизнь. Метафора «моря житейского» из греческой риторики (где она действительно была обусловлена опытом народа мореходов) попала в состав «общих мест» международной христианской литературной традиции и уже в святоотеческие времена стала непременным компонентом последней"; между прочим, она популярна и в русском фольклоре, хотя житель Средней России не так уж часто наблюдал валы на море или даже на достаточно большом озере. Что касается Нарекаци, важно даже не го, что его «морская» метафорика насквозь условна и не обнаруживает ни единой конкретной черты, а то, что по ее внутреннему заданию конкретность ей принципиально противопоказана. Положим, мы могли бы идентифицировать его покаянные излияния как произносимые именно на берегу озера Ван; это означало бы, что единоверец, по случайности обретающийся вдали от озера Ван, уже отлучен от тождества с кающимся лирическим героем.
Позволим себе исторически оправданную аналогию. Современный интерпретатор византийско-русской иконы объясняет, почему линейная перспектива и объемная телесность разрушили бы смысл иконы: изображенный предмет тем самым получил бы однозначную фиксацию в физическом пространстве перед зрителем, а его трехмерность как бы выталкивала зрителя по тем законам, по которым два физических тела не могут одновременно занимать одно и то же место, а между тем для сверхзадачи иконы необходимо, чтобы предмет этот представал не только перед зрителем, но одновременно внутри его и вокруг него, как объемлемое и объемлющее, а потому позволяющее войти вовнутрь себя, пускающее в себя8. Те же самые требования предъявляются для покаянных жанров к авторскому «я»: оно должно пускать в себя, а значит, ему не пристало быть чересчур объемным.
Итак, жанру в целом предписан сверхличный характер. «Сверхличный» для поэтов со слабой индивидуальностью значит «безличный». И мы знаем, что в сакральной словесности средневековья немало таких «ничьих» текстов, живущих не индивидуальным вдохновением, а внушениями самого жанрового канона, энергией жанровой нормы как таковой. Это. отнюдь не всегда тождественно с эстетической слабостью; порой перед нами просто совершенство но совершенство безличное. Нарекаци совсем не таков. Его индивидуальность достаточно сильна, чтобы сохранить себя, отрекшись от себя и до конца отдавши себя, чтобы явиться воскресшей и преображенной, сойдя в гробницу сверхличной духовной дисциплины. Как сказано, «ненавидящий душу свою сохранит ее», и обещание это оправдывает себя в историко-литературном явлении Григора из Нарека: поэт-монах очень круто обходится с индивидуальной «душой» своего творчества, отказывает ей во всякой биографической идентичности, без остатка стирает все портретное, стесняет ее спонтанное самовыражение, но сама жизнь этой души впрямь сохранена. Каждый читатель может убедиться в ее сохранности. Если чтение Нарекаци побудит каждого из нас лишний раз задуматься над тем, насколько непроста диалектика личного начала, это будет неплохо.
И вот что важно: из простой данности, навязанной религиозным мировоззрением и религиозным обиходом эпохи, т. е. извне литературы как таковой, из обязательства, с которым приходится просто смириться, Григор превращает сверхличное направление своей поэзии в особую поэтическую тему. Если он приносит в жертву, «распинает» свою индивидуальность, этот акт имеет у него патетику монументального жеста. Он ломает средостение между «я» и «не-я» словно широким взмахом руки, чтобы мольбу за себя и мольбу за всех нельзя было различить. В нашем веке поэты так часто искали пути «от горизонта одного к горизонту всех». Горизонт поэзии Нарекаци и есть в каждое мгновение горизонт всех конечно, увиденный так, как мог видеть человек того времени; и это специально выражено, высказано в слове. «Со всеми вместе молю о милосердии; вместе с униженными и несмелыми, вместе с падшими и презренными...» Выше мы оборвали цитату, чтобы она не была чересчур длинной. Но Нарекаци не боялся нарушить меру в этом пространном перечне категорий людей, с которыми он объединяет себя в самой конечной, самой последней инстанции своего бытия перед престолом Бога. Перечень все длится и длится:
Вместе с безрассудными и с отрезвившимися,
Вместе с беспутными и с воздержными,
Вместе с удалившимися и с приблизившимися,
Вместе с отринутыми и с возлюбленными,
Вместе с оробевшими и с дерзновенными,
Вместе с пристыженными и с ликующими
(гл. 32, § 1).Мы как будто видим две многолюдные толпы, два сонма, два хора одни стоят прямо и бодро, поднявшись после всех падений, и ликуют в твердой вере и уверенном знании о своем избранничестве, другие колеблются, шатаются, падают и не умеют подняться, поражены сомнением, ощущают себя отвергнутыми, отринутыми, чуть ли не предопределенными к погибели. Если бы поэт думал только о собственном спасении, он мог бы сосредоточиться на мольбе; пусть его Бог сподобит быть с первыми, а не со вторыми. Если бы поэт был озабочен тем, чтобы выказать свое смирение, он мог бы однозначно отождествить себя со вторыми: я грешник, а потому отделен от праведных. В самом начале своего перечня он как будто и вступает на этот путь, объединяя себя с «униженными и несмелыми», «падшими и презренными». Но в следующий момент преграды снимаются. Да, поэт грешен, и потому только ли потому или по закону жалости? прежде всего ставит себя в ряды самых пропащих и безнадежных; однако он не отделяет себя и от праведников, хотя бы потому, что не отделяет себя ни от кого. Казалось бы, два сонма так разнятся между собой они собраны по противоположным признакам, между ними нет ничего общего; однако избранные и бодрые непрерывно ходатайствуют за отверженных и расслабленных, а те просят о помощи, между обоими сонмами идет общение. Для традиции, к которой принадлежал Нарекаци, это составная часть принятой доктрины; но для поэзии Нарекаци это тема, артикулируемая с необычной остротой. Особенно интересна роль, которая при этом отводится фигуре самого поэта; раз она «вместе» с теми и другими одновременно, воссоединение тех и других происходи! в ней и через нее; она явлена «во знамение» воссоединения. Л годи должны быть заодно, потому что поэт уже сейчас заодно со всеми.
Нарекаци не устает повторять, что говорит за всех, для всех но «все» для него чересчур отвлеченно, ему надо конкретизировать, перебрать возможные варианты человеческого существования. Поэтика перечня, «каталога» очень традиционная; Григор воспринимает ее одновременно в верности традиции, в послушании традиции, общей для всего средневековья, и в первозданной непосредственности, характеризующей именно его. Вот кому он предлагает свою книгу как увещание и «зерцало»:
И тем, что в первую пору жизни вступили,
И тем, что находятся во второй, менуемой возмужалостью,
И старцам немощным, чьи дни подходят к концу,
Грешникам и праведникам,
Гордецам самодовольным и тем, что корят себя за прегрешения,
Добрым и злым,
Боязливым и храбрым,
Рабам и невольникам,
Знатным и высокородным,
Средним и вельможам,
Крестьянам и господам,
Мужчинам и женщинам,
Повелителям и подвластным,
Вознесенным и униженным,
Великим и малым,
Дворянам и простолюдинам,
Конным и пешим,
Горожанам и селянам,
Надменным царям, коих держит узда страшного,
Пустынникам, собеседующим с небожителями,
Дьяконам благонравным,
Священникам благочестивым,
Епископам неусыпным и попечительным,
Наместникам [Божьим] на престоле патриаршем,
Кои раздают дары благодати и рукополагают
(гл. 3, § 2).Широкое дыхание таких пассажей, которые разматываются, как нить, развертываются, как гонкая ткань, струятся, как река, характерно для определенного типа словесного творчества, представляющего собой константу всей средневековой литературы в целом от Атлантики до Месопотамии и от Августина до Вийона. Что касается специально Вийона, трудно не вспомнить перечень из его «Большого завещания», очень близкий к процитированным строкам Григора Нарекаци еще и по топике. Вот этот перечень в буквальном переводе: «Я знаю, что бедных и богатых, мудрых и безумцев, священников и мирян, благородных и подлых, щедрых и скаредных, малых и великих, прекрасных и безобразных, и дам с высокими воротничками, любого сословия, причесанных как барыня или как мещаночка, возьмет смерть без всякого исключения». Вийон не может сказать «все вообще люди» он должен выяснить объем этого понятия через долгую цепочку антитез.
Но нас сейчас больше интересует не мотив исчисления человечества путем «бинарных оппозиций», имеющий многочисленные прецеденты уже в Ветхом завете, «одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертвы и не приносящему жертвы, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы» (Екклесиаст 9: 2), но интонация как таковая: неудержимый напор словесного потока, когда каждое слово сейчас же варьируется в ряде синонимов, каждая метафора в последовательности дополнительных метафор. Вот взятый наугад пример из «Размышлений» Августина: «Какое зло сотворил ты, сладостный отрок, что судим ты таким судом? Какое зло сотворил ты, возлюбленный юноша, что с тобою поступили столь сурово? В чем преступление твое, в чем грех твой, в чем вина твоя, чем заслужил ты смерть, чем навлек на себя казнь?» (8, 1). В древнерусской литературе подобная интонация особенно характерна для Епифания Премудрого и авторов его круга: «...Да и аз многогрешный и неразумный, последуя словесем похвалений твоих, слово плетущи и слово плодящи, и словом почтити мнящи, и от словесе похваление събираа, и приобретав, и приплетаа, паки глаголя: что еще тя нареку, вожа заблудшим, обретателя погибшим, наставника прельщенным, руководителя умом ослепленным, чистителя оскверненным, взыскателя расточенным, стража ратным, утешителя печальным, кормителя алчащим, подателя требующим, наказателя несмысленным, помощника обидимым, молитвенника тепла, ходатаа верна, поганым спасителя, бесом проклинателя, кумиром потребителя, идолом попирателя, Богу служителя, мудрости рачителя, философии любителя, целомудрия делателя, правде творителя, книгам сказателя, грамоте перьмстей списателя», обращается Епифаний к своему герою.
Именно в применении к русскому материалу такая поэтика патетического «нанизывания», т. е. эмоционально-суггестивного использования синонимов, очень отчетливо описана Д. С. Лихачевым: «Здесь синонимы обычно ставятся рядом, они не слиты и не разделены. Автор как бы колеблется выбрать одно, окончательное слово для определения того или иного явления и ставит рядом два или несколько синонимов, равноценных друг другу. В результате внимание читателя привлекают не оттенки и различия в значениях, а самое общее, что есть между ними...». Роль «синонимических» сравнений аналогична роли лексических синонимов; их сочетание «не позволяет вниманию читателя задержаться на их ощутимой стороне, стирает все видовые отличия, сохраняя лишь самое общее и абстрактное и оставляя у читателя ощущение значительности того, о чем идет речь». Сами древнерусские авторы называли цель своих стремлений «словесной сытостью».
К этой характеристике мало что можно добавить, кроме одного очень важного момента. Речь идет о стилистической традиции, в которой неразличимо сближены начала, представляющиеся нам несовместимыми, шумное витийство и тихая медитация, игра со словами и вникание в смысл, лежащий за словами. В этом смысле характерен историко-культурный казус Августина, который мог на пороге средневековья перейти от роли ритора к роли медитатора, так мало изменив в чисто стилистических приемах своей прозы. Для средневековой медитативной литературы особенно много дала техника риторической «амплификации» искусства делать речь пространной и тем повышать ее внушающую силу. Ритор, владеющий такой техникой, будет подбирать для одного и того же предмета все новые слова, стремясь усилить блеск уготовляемого им словесного праздника, словесного фейерверка; но для человека, совершающего акт медитации, такая же процедура нужна ради того, чтобы все глубже и глубже уходить вовнутрь предмета, в пределе достигая уровня, на котором слова уже не существуют. Так, псевдо-Дионисий Ареопагит, неизвестный грекоязычный автор V в., щедро излив в трех своих трактатах потоки синонимов и параллельных метафор, заявляет под конец своего корпуса, в последнем, «апофати-ческом», трактате: «Здесь мы обретаем уже не краткословие, а полную бессловесность». Ему нужно было очень много слов, чтобы выйти за пределы слова". Его пример многое проясняет в практике Нарекаци.
Обратим внимание на смысловую структуру обращения к Богу в параграфе 2 той самой тридцать второй главы, которая открывается приведенным выше грандиозным перечнем грешников и праведников, с которыми соединяет себя Григор из Нарека. Сначала идут очень богатые парафразы отвлеченного философского понятия высшего блага, summum bonum, искусно перемежаемые библейскими метафорами «наследия» и «жребия», но в целом держащиеся линии античного идеализма, а на чисто литературном уровне поражающие своей неисчерпаемостью тем, что Флоренский назвал применительно к аналогичным явлениям византийской поэзии «кипящим остроумием»:
Сущность непостижимая, истина неисповедимая.
Сила всемогущая, милость всевластная,
Совершенство безбрежное, наследие неизреченное,
Жребий достойный, одарение обильное,
Мудрость неомраченная, милостыня вожделенная,
Даяние желанное, радость взыскуемая,
Покой беспечальный, обретение несомненное,
Бытие неотъемлемое, стяжание негибнущее,
Высота несравненная...Эта часть ряда самая «умственная»; и в ней Бог не «ты», а «оно», не лицо, а сущность, рассматриваемая сама в себе, онтологически («бытие», «истина», «сила», «мудрость», «высота»), а в отношении к человеку лишь как цель его устремлений и обретения («радость», «покой», «стяжание», «жребий»). Невольно вспоминается неподвижный перводвигатель Аристотеля, заставляющий все сущее любить себя и в любовном порыве тянуться к нему, приводящий таким образом в движение махину мира (Метафизика, XII, 7), но сам любящий только свое самодостаточное, покоящееся совершенство, никуда и ни к кому не порывающийся.
Но сейчас же начинается средняя часть ряда, где Бог уже не сущность, но деятель, «живой Бог», проявляющий себя в актах любви, милости, жалости:
Искуснейший целитель, неколебимая твердыня,
Возвратитель заблудших, обретатель погибших,
Упование надеющихся, просвещение помраченных,
Очиститель согрешивших, Ты.....прибежище беглецов,
Успокоитель мятежных, Ты спасение погибающих,
Ты разрешитель уз, освободитель тех, кого предали,
Ты защита оступившихся, Ты состраждущий соблазнившимся,
Долготерпение сомневающихся...И это не последнее слово. Бог как защитник человека все еще сила, внешняя по отношению к человеку; и его действование описывается скорее для рассудка, чем для чувства. В последней части ряда мегафоры приобретают более сердечный и более таинственный характер. Речь идет уже не о самодостаточной сущности и не о предельной цели человека, лежащей над ним и впереди него, а также не о могущественном покровителе человека, на чью помощь можно рассчиты?вать, но о сокровенном средоточии самой человеческой души и человеческой жизни, о силе, действующей «извнутри» человека и более близкой ему, чем он сам. Едва ли осмотрительно говорить в этой связи о пантеизме: термин, абсолютно четкий в применении к философии Спинозы, но вызывающий легкие сомнения даже тогда, когда речь идет о проповедях Мейстера Экхарга, является в данном случае весьма спорным. Когда в Евангелии от Луки сказано: «Царство Божие внутри нас» (17: 21), это, конечно, не пантеизм. Когда Августин говорит о Боге как о сердцевине собственного «я»: «Я не был бы, я совершенно не мог бы быть, если бы ты не пребывал во мне» (Исповедь, 1 3), это тоже не пантеизм. И все же акцентировка внутреннего присутствия Бога в человеке, в человеческих телодвижениях, в человеческой речи, несомненно, вносит новый смысловой момент, и притом очень существенный. Легко заметить, что тема интимности между Богом и человеком, тайны, сближающей Бога и человека, особенно волнует Нарекаци и делает его более красноречивым, чем обе предыдущие темы:
Образ света, видение радости, проливень благодати,
Дыхание жизни, сила облика, покров над головой,
Движитель уст, побудитель речи, водитель тела,
Воздыматель руки, простиратель пясти, обуздатель сердца,
Родное имя, родственный глас,
Единение искреннее, попечение отчее,
Имя исповедуемое, лик почитаемый, образ непостижимый,
Власть боготворимая, память похваляемая,
Вход ликования, стезя верная, врага славы,
Путь истины, лествица небесная...В евангельском изречении Христос назван «путем» и «истиной»; если бы он был только «истиной», этим была бы лишний раз подчеркнута недостижимость Бога для человеческой души, пребывающей вне истины, но «путь» к истине, дарящий себя человеческим стопам, совсем иное дело. Если божественное начало не только в запредельной недвижности, в сакральной статике, но в динамике человеческого усилия, тогда человеку есть на что надеяться. Доступность пути выражена в слове сильнее, чем неприступная высота цели; отцовское, «родное» и «родственное» человеку сильнее, чем царственное. Не модернизируя древнего армянского поэта, не настаивая ни на его вольнодумстве, ни на его пантеизме, ни на его богоборчестве, мы имеем полное право оценить его позицию как глубоко человечную. Человечности дано последнее слово в разобранном нами пассаже; но ей у Нарекаци всегда принадлежит последнее слово.
Дойдя до этого итога, напор витийства знаменательным образом спадает. «Неисчислимые ряды, несметные строфы» только средство, чтобы дойти до последней проникновенности и умолкнуть. Роскошь сравнений служит тому, чтобы на пределе возможностей поэзии раскрылась безмолвная глубина сердца, и сердца страдающего, уязвленного, беззащитного. Убранство метафор должно быть очень тяжеловесным и плотным, чтобы укрыть такую незащищенность.
А теперь несколько слов о характере этого издания. До сих пор Нарекаци был известен русскому читателю в переводах Н. И. Гребнева. Эти отличные русские стихи лучше бы назвать старинным словом «переложения»; так во время оно Ломоносов, Державин и Языков перелагали псалмы, так сам Пушкин писал «Из Анакреона» или «Подражания Корану» и перековывал алкееву строфу Горация в четырехстопные ямбы: «Кто из Богов мне возвратил?..» Найти место в ряду наследников такой традиции не только не зазорно это немалая честь. Сила Наума Гребнева в убежденной и прочувствованной верности обиходу русского стиха от Пушкина до Пастернака. Но читатель имеет право переспросить: «А как же все-таки у Нарекаци?»
На этот вопрос нужен ответ. Это частично сделано в подстрочных переводах, которые фрагментарно публиковались вместе с переводами Н. Гребнева. Сейчас нужно подвести читателя на возможно более близкое расстояние к оригиналу настолько близкое, чтобы ему пришлось выйти за пределы всех привычных ассоциаций, подсказываемых русской поэтической культурой, чтобы посредническое дело переводчика стало возможно смиреннее, а его присутствие почти неощутимым, чтобы через тонкий покров русских слов можно было, словно рукой, осязать армянский текст.
Вот цель, которой служит перевод Маргариты Дарбинян-Меликян и Лены Ханларян. Уже из цитат, приведенных в нашей статье, читателю ясно, что это не тривиальный подстрочник.
С. С. Аверинцев
5 ...
ТЕКСТЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО СИНТАКСИСУ
И ПУНКТУАЦИИ В ВОСЬМОМ КЛАСС
Расставьте недостающие знаки препинания, вставьте пропущенные буквы. Исправьте орфографические ошибки.
Найдите сказуемые разных видов, выпишите по одному примеру каждого вида (вместе с подлежащим, если пример взят из двусоставного предложения).
К моему величайшему удивлению я оказался музыкальным – так по крайней мере утверждала Марья Гавриловна. Ученье пошло с не ожид_ной быстротой. Инструмента у нас еще не было но Варя Соловьева взявшая надо мною ше_ство не давала мне «повернуть в конюшню» как в последстви_ много лет спустя определил эту мою склон_сть Корней Чуковский. Она ловила меня на улице один раз сняла с забора через который я перел_зал убегая от нее и с упорн_м неподвижным лицом вела к роялю.
Квартира дедушки ликвидировалась после смерти бабушки. И нам прислали рояль, тот самый рояль на котор_м я играл спич_чными коробками когда мне было шесть лет. Теперь я начинаю играть упражнения и гаммы дома. Папа доволен тем что у меня обн_руж_лись какие то т_ланты.
(Е.Шварц)
Найдите предложение с однородными сказуемыми и нарисуйте схему связи однородных членов. Заключите в рамку вводное словосочетание.
Выпишите исправленные слова, обозначьте части речи.
Подчеркните главные члены в выделенных предложениях и укажите, какими частями речи они выражены. Укажите вид сказуемого.
Однажды утром когда Пьер Гассенди, знаменитый философ ритор и астроном, не боявшийся спорить даже с самим великим Декартом читал
оч_редную лекцию в низу в прихожей вдруг раздался шум застав_вший пр_рвать занятие. Гассенди с учениками вышли узнать, в чем дело. Они увид_ли молодого дв_рянина колотившего чем попало слугу. Весь облик незнакомца был пр_мечателен но первое, что бросалось в глаза, – это его огромный нос. Что вы себе позв_ляете строго спросил философ и услышал в ответ Я хочу слушать лекции великого Гассенди а этот хлюст ра_топырился на моем пути. Но, клянусь своим носом, я буду слушать этого умнейшего человека даже если мне пр_де_ся проткнуть шпагой вот этого дурака или кого нибудь еще! Голос Гассенди заметно потеплел Что ж возможно я смогу вам помочь. А как вас зовут молодой человек? Савиньен де Сирано де Бержерак поэт гордо ответил гость.
(А.Цуканов)
Обведите (заключите в рамку) вводное слово.
Есть ли здесь повествование, описание, рассуждение? Какими способами связаны между собой предложения в тексте?
Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания.
Подчеркните грамматические основы, укажите вид каждого сказуемого.
Один молодой афинянин обр_тился в суд. Он утв_рждал что его одр_хлевший отец выжил из ума и потому не может распор_жа_ся имуществом семьи. Старик не стал оправдыва_ся – он лишь прочел судьям только что законченную тр_гедию. После этого спор был сразу решен в его пользу а сына признали бе_совестным лжецом. Тр_гедия называлась «Эдип в Колоне» а старика звали Софокл.
(О.Левинская)
Выделите только те корни, в которых пропущенная гласная проверяется ударением.
Расставьте недостающие знаки препинания, вставьте пропущенные буквы.
Подчеркните сказуемые, укажите их вид.
Медвеж_нок был довольно рослый с умными глазами с черной мордой и жил он в будке на лицейском дворе. Пр_надлежал он генералу Захаржевскому управляющему царскосельским дворцом и дворцовым садом. Каждое утро лицеисты видели как соб_раясь идти в обход генерал трепал по голове медвеж_нка а тот порывался сорва_ся с цепи и пойти вслед за ним.
И вот однажды на глазах у лицеистов произ_шло событие которое внесло медвеж_нка в политическую историю лицея.
Генерал Захаржевский проходя однажды мимо будки к ужасу своему обнаружил что будка пуста: медвеж_нок таки сорвался с цепи. Начали искать – безуспешно: н_ на дворе н_ в саду медвеж_нка не было. Генерал потерял голову: в двух шагах был дворцовый сад...
(Ю.Тынянов)
Выпишите: 1) сказуемое, выраженное фразеологическим сочетанием; 2) сказуемое с глаголом-связкой быть в нужной форме.
Отметьте значком «+» сказуемые, выраженные глаголом быть в нужной форме.
Отметьте значком «++» сказуемые в односоставных предложениях (в которых нет подлежащего). Подчеркните подлежащие, выраженные местоимениями. Укажите разряд местоимений.
Обозначьте все морфемы, в которых были пропущены буквы.
Расставьте недостающие знаки препинания, вставьте пропущенные буквы.
Обозначьте грамматические основы, укажите вид сказуемых.
Подчеркните деепричастные обороты.
На привале мы спали завернувшись в одеяла. Я все не мог закута_ся и девочки Соловьевы заботливо помогли мне. Я болтал смешил всех. Лицо г_рело я был опьянен и все не д_вал спать н_ кому да н_кто и не хотел спать. Со стороны мы вероятно пок_зались бы сум_шедшими вот почему я так снисходител_н к к_мпаниям наших сверс_иков (сверс_иков – по тогдашнему нашему возр_сту) которые так шумно взявшись под руки шагают по комаровским улицам или хохоч_т заняв скамейки друг против друга в электричке. Хохоч_т во что бы то н_ стало.
(Е.Шварц)
Придумайте и запишите предложение с выделенным оборотом.
Выпишите слова с непроизносимыми согласными.
Вставьте пропущенные буквы.
Подчеркните главные члены во всех предложениях и укажите, какими частями речи они выражены. Укажите вид сказуемого. (Учтите, что в этом тексте все знаки препинания, кроме трех запятых, разделяют простые предложения в составе сложных.)
Согласно мифу фиванский царь Лай и его жена Иокаста получили страшное пророчество: их сын убьет отца и жени_ся на матери. Царь с царицей решили пред_твратить беду: ребенка с проткнутыми спицей ногами слуга должен был отнести на гору Киферон и оставить там. Но раб не смог выполнить жестокий приказ; он встретил пастуха из Коринфа и отдал младенца ему. Так мальчик попал в Коринф, в дом бездетных царя Полиба и его жены Меропы. Он стал им сыном, а имя получил Эдип, что означает «с ра_пухшими ногами». Как-то на пиру один из гостей нам_кнул Эдипу, что он приемыш. Эдип отправился в Дельфы к оракулу за правдой и там узнал, что ему суждены убийство отца и брак с матерью. Он поспешил уйти подальше от Коринфа, чтобы не погубить Полиба и Меропу, сыном которых себя считал.
(О.Левинская)
Поставьте ударение в выделенных словах.
Второстепенные члены предложения
Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните все глаголы в неопределенной форме как члены предложения.
Выделенные предложения разберите по членам.
С детских лет Роберта Льюиса Стивенсона мучили болезни, он почти не ходил в школу и не играл со свер_никами. Однако лежа в постели в окружени_ игрушек он никогда н_ испыт_вал скуки потому что умел фантазировать. Любимая няня читала ему вслух и рассказывала сказки. Именно ей он посв_тит первую в истории литературы книгу стихов адресова_ых детям. Написана она была по-новому. Автор не учил читателей ве_ти себя хорошо и слуша_ся маму а изображал мир ребенка пр_красн_м и загадочн_м.
Но начал Стивенсон с прозы. В пятнадцать лет он написал и издал очерк о во_тании шотла_ц_в против англичан. Он готов был посв_тить жизнь литературе но пришлось уступить отцу и учи_ся в Эдинбур_ком университете на отделен_ права. Окончив университет Стивенсон с новой страстью отдае_ся любимому делу.
Болезнь гон_т его в теплые края. Он путеше_твует с другом по югу Франции, где пишет серии очерков. Читатель сразу почу_твовал в авторе умного и наблюдательного человека который мог зан_мательно и с юмором рассказывать даже о пуст_ках.
Умение быть счастлив_м при любых обстоятельствах Стивенсон сохранил на всю жизнь. Особенно оно пригодилось в борьбе с его злейшим врагом – туберкулезом. В поисках подходящего для здоровья климата ему пришлось много путеше_твовать. Писатель лечился в зимнем санатори_ в штате Нью-Йорк плавал на яхте по Тихому океану но не перест_вал работать. Когда врачи запретили ему двига_ся он диктовал произведения жене.
Последние свои годы Стивенсон провел на острове Самоа в Тихом океане. Он подружился с самоанцами, выучил их язык посылал статьи об их жизни в _ондонские газеты чтобы привле_ внимание к проблемам маленького народа. Когда на Самоа назревала гражданская война он ездил верхом от одного лагеря к другому пытаясь скл_нить стороны к миру.
После смерти писателя шес_десят самоанц_в отнесли гроб с его телом на вершину горы. На могильном камне выбили стихотворение Стивенсона Реквием которое начинае_ся словами
Под звездн_м небом, на ветру
Место последнее изб_ру.
Радостно жил я легко умру
И ле_ в могилу готов.
(О.Свенцицкая)
В тексте два слова написаны через дефис. Найдите их и объясните их написание.
Напишите ответ на один из вопросов: «Что вам кажется необычным в жизни Стивенсона? О каких свойствах личности английского писателя говорится в тексте?».
Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания. Исправьте орфографические ошибки.
Подчеркните причастные обороты и обозначьте определяемые слова.
Как называется член первого предложения, выделенный запятыми?
Легенда рассказывает о том как молодой Григор Нарекаци, буд_щий великий армянский поэт и богослов, исполняя данный себе обет в течени_ семи лет пас не по далеку от м_н_стыря деревенское стадо и н_ разу н_ ударил н_ одно животное. Когда же по прошестви_ срока он в знак исполнения обета воткнул так и не использованный прутик в землю то из прутика вырос зеленый куст.
Недруги решили обв_нить Григора в ереси. Его даже хотели вызвать на церковный и светский суды но этому по пр_данию помешало еще одно чудо. Посл_ные за Нарекаци стражники явились к нему в постный день. Он пр_гласил их отобедать у него и им подали жаре_ых голубей. Стражники очень уд_вились нарушению церковного устава и укорили Григора. Тот смутился сказал, что просто забыл, какой сегодня день и хлопнул в л_доши. Голуби вдруг ожили и улетели. Когда весть о чуде разнеслась по округе суд над Нарекаци конечно стал не возможен.
(А.Цуканов)
Что такое обет, ересь, светский, постный?
Обведите (заключите в рамку) вводные слова. Выполните синтаксический разбор выделенных предложений.
Назовите все части речи в первом предложении.
Поставьте ударение в выделенном слове.
Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания. Исправьте орфографические ошибки.
Подчеркните все глаголы в неопределенной форме как члены предложения.
Подчеркните приложение.
Русская императрица постоянно переписывалась с великим французским философом Дени Дидро и считалась с его мнением. В начале 70-х годов XVIII в. он получил от своей могущественной к_респондентки пр_глашение пр_ехать в Россию и с радостью принял его. Для Дидро это путешествие было очень важным. Ведь здесь открывал_сь возможность повл_ять на «философа на троне» и тем самым способствовать бл_гополучию ее подд_ных. Увы Екатерина не могла разделить радикальных взглядов Дидро и на все его призывы не медленно прове_ти в стране реформы и освободить крестьян отвечала достаточно осторожно обр_щая его вн_мание на не подготовл_ность и не просв_ще_ость русского народа. Однако эти ра_хождения не мешали философу и царице беседовать часами. Екатерина с не которым к_кетством ра_казывала пр_дворным что Дидро увл_ченный своими ра_уждениями забывал об _тикете хватал ее за руки и так сильно _жимал их что ост_вались синяки. Философ упр_кал Екатерину в том что она не выполнила многих об_щаний данных ею в начале царствования решительно осуждал ее за излишне кровав_ю внешн_ю политику – словом, открыто и не л_цемерно выр_жал свое мнение о правлени_ императриц_.
За свое желание принести благо России Дидро заплатил если н_ жизнью то по крайней мере здоровьем. На обратном пути его к_рета проломила лед на реке и от болезни начавш_йся по возвр_щени_ во Франци_ философ так и не оправился.
(Т.Эйдельман)
Обозначьте все морфемы, в которых были пропущены буквы.
Выполните синтаксический разбор выделенных предложений и перескажите их.
Что такое _тикет, к_респондентка, радикальный?
Как названа в тексте Екатерина (продолжите по памяти, потом сверьте с текстом): русская императрица,... . Можно ли поменять местами эти названия?
Вводные слова и предложения
Вставьте в текст, где нужно, вводные слова, выбрав подходящие из списка: следовательно, к счастью, во-первых, впрочем, иными словами, например, скажем, наоборот, напротив.
Вставьте пропущенные буквы.
Слово может расширять свое значение. Кров этимологически означает «крышу», но в сочетаниях типа гостеприимный кров или делить хлеб и кров это слово имеет уже более широкое значение – «дом». В основе подобного рода изменений нередко лежит обыч_й называть в речи часть вместо целого.
В других случ_ях значение слова может сузи_ся. Более древн_м значением слова порох было «пыль», порошок – уменьшительное от порох. Но в современн_м русском языке далеко не всякий порошок является порохом, а только тот, который представляет собой особое взрывч_тое вещество. Слово порох сузило свое значение.
(По Ю.Откупщикову)
Выделите грамматические основы в предложениях второго абзаца.
Найдите и подчеркните глагол в неопределенной форме, который употреблен в роли второстепенного члена предложения.
Найдите в тексте тезисы и доказательства. Составьте и запишите свой текст по такой же схеме и с теми же самыми вводными словами.
Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания. Обведите (заключите в рамку) вводные слова. Особое внимание обратите на предложение, в котором вводное слово идет за союзом а.
В Древней Греции считалось что Троянская война началась либо потому что всемогущий бог Зевс пожелал уменьшить к_личество людей на земле либо потому что он решил дать возможность прослави_ся героям а может быть своей дочери прекрасной Елене. Поводом к войне послужило вот что. Однажды богиня Эрида подкинула трем обитательницам Олимпа – Гере Афине и Афродите – яблоко с надписью: «Прекраснейшей». Каждая богиня конечно наде_лась что яблоко предназнач_но ей. Рассудить спор Зевс приказал Парису.
По рождению Парис был троянским царевичем но жил не во дворце а среди пастухов. Дело в том что его родители Приам и Гекуба еще до рождения сына получили страшное пророчество: из-за мальчика погибн_т Троя. Младенца отнесли на гору Иду и бросили там. Париса нашли и воспитали пастухи. Здесь, на Иде, и рассудил Парис трех богинь. Победительницей он признал Афродиту но не бескорыстно: та пообещала юноше любовь самой красивой на свете женщины.
Когда Парис вернулся в Трою уже как царский сын он решил побывать в Греции. В Спарте его принимал царь Менелай с женой Еленой. Афродита убедила красавицу Елену подда_ся уговорам Париса и бежать с ним в Трою. Обманутый Менелай собрал большое войско назначил главнокомандующим своего брата Агамемнона и двинулся на Трою.
Сегодня в католической Церкви впервые празднуется память Григора Нарекаци, армянского богослова, поэта и философа, провозглашенного папой Франциском учителем Церкви. О святом рассказывает Сергей Аверинцев.
Не страшись моих золотых риз, не пугайся блистания моих свечей.
Ибо они - лишь покров над моей любовью, лишь щадящие руки над моей тайной.
Я выросла у древа позора, я упоена крепким вином слез,
Я - жизнь из муки, я - сила из муки, я - слава из муки,
Приди к моей душе и знай, что ты пришел к себе
Гертруд фон Ле Форт. Из «Гимнов к Церкви»
Место «Книги скорбных песнопений» Григора из Нарека не только в традиционной армянской культуре, но и во всей традиционной армянской жизни не с чем сравнить. Сборник, законченный в самые первые годы XI века, из столетия в столетие переписывали наравне с Библией, стремились иметь чуть ли не в каждом доме. Целый народ принял поэзию Нарекаци к сердцу. Ее благое действие представало в умах простых людей распространившимся из области духовного на область материального; если от текстов ожидали врачевания человеческой души, то в вещественности рукописи сборника искали исцеления для недужного человеческого тела - ее можно было подложить под голову больному.
Так у крестьян Японии было заведено тереть хворые места тела об изваяния будд работы гениального мастера Энку, отчего деревянные статуэтки непоправимо стирались, но зато вера в чудотворную силу жалости и милости, вдохновлявшая художника, со всей конкретностью наглядного жеста подхватывалась людьми, для которых художник работал. Наивность есть наивность, но о недоразумении в таких случаях говорить не приходится - вещь употреблена по назначению, художника поняли, в общем, верно. Вот и рукописям со стихами Нарекаци никак не меньше, чем фигуркам Энку, идет эта судьба - предстать воображению народа как источник действенной помощи.
В этой связи трудно не вспомнить простосердечную легенду о чуде, явленном от могилы Григора в Нареке много времени спустя после смерти поэта. Владевший тогда Нареком курд поручил заботам армянской крестьянки свою курицу с цыплятами, но бедная женщина недоглядела - курица со всем выводком забралась от ливня под жернов, жернов, как на грех, упал, и птицы были насмерть раздавлены. Отчаянно перепуганная крестьянка отнесла курицу и цыплят на могилу Нарекаци и положила их там, а сама занялась своими трудами - деревенская работа не ждет - про себя взывая к его помощи. «И когда прошло около часа, - повествует минейный текст, - увидела она, как идет переваливаясь курица с ожившими цыплятами».
Чудеса на могиле святого - общее место житийной литературы, но у этого рассказа - особый колорит, очень домашний; не забыта даже такая подробность, как переваливающаяся походка курицы. Положение, из которого чудесный избавитель вызволяет деревенскую женщину, - вправду серьезное, потому что взбешенный курд не стал бы ее щадить; однако материя сюжета лишена обычной в таких случаях патетики и не выходит за пределы обыденности - тут перед нами не разбушевавшееся море, не тяжкий недуг, не плен в далекой стране, а только курица и жернов, и даже расправа грозит не от какого-нибудь злого царя, а от тирана сугубо локального значения.
Способным понять, пожалеть и помочь в житейской беде, совсем «своим» - таким представлялся из века в век Нарекаци; армянскому народу. Гений редко бывает также и святым (самый несомненный пример - Августин); но гений и святой в одном лице, про заступничество которого рассказывали бы такие мягкие по тембру легенды, какие связывает армянская агиография с именем Григора, - это, кажется, единственный в своем роде случай.
А в фольклоре складывается рассказ о том, как Нарекаци - в действительности ученый монах, вардапет, книжник и сын книжника - семь лет нес смиренную службу пастуха, ни разу не осердившись на скотину, не хлестнув ее и не обидев злым словом. «Блажен муж, иже и скоты милует». Выдержав испытание, он воткнул прут, которым ни разу не была бита ни одна живая тварь, в землю посреди деревни, и прут превратился в куст, напоминающий людям о красоте милости и о славе Нарекаци. Народные итальянские легенды о Франциске Ассизском называются «фьоретти» - «цветочками». Вокруг имени вардапета Григора из Нарека тоже выросли свои фьоретти.
Со временем слава нарекского монаха распространилась повсюду, и о нем, как считают, даже при жизни слагались легенды, которые дошли до нас частично устным путем, частично же через письменные источники.
Примечательно, что в слагавшихся в течение веков многочисленных преданиях и легендах народ опростил и тем самым приблизил к себе Нарекаци, вложив в его личность, жизнеповедение, поступки свои мечты и чаяния, свой идеал истинно народного человека, единственный смысл жизни и деятельности которого состоит в заботе об обойденных судьбой, о страждущих и обездоленных.
Если к этому добавить еще и благоговение, с каким относились к слову или молитве причисленного к лику святых Григора или к чудодейственным свойствам его могилы, то мы получим более или менее полный образ поэта в народном воображении. В легендах и преданиях знаменитый монах выступает в благородной роли защитника несчастных, их хранителя и утешителя. Кому только не приходит на помощь его спасительная десница: вдове и сиротам умершего пастуха, родителям и скорбящей невесте безвременно погибшего юноши, голодным подпаскам, беспомощному I калеке... Ярким примером того, с какой теплотой и в каких светлых тонах обрисовал народ человеколюбие, милосердие и доброту монаха Григора Нарекаци, может служить следующее предание: «Пришел святой Григор в село Харзит. И видит, селяне дерутся меж собой. Он спросил о причине драки, ему ответили: «Пастух нашего села умер, мы ругаемся, так как нет у нас больше пастуха». Спрашивает святой: «Нет ли у него дома кого-либо, кто мог бы пасти овец?» Говорят: «Нет, там лишь жена и семеро сирот». Святой говорит: «Хотите вы меня? Я буду пасти овец, а мзду вы отдадите им сиротам». Они с радостью согласились. Святой погнал овец на пастбище над селом, овцы каждый день лезли в гору пастись, а сам он под яблоней молился. Все волки и иные звери при виде этих овец разбегались. А когда наступало время их доить, овцы сами приходили под дерево к святому Григору. И однажды: крестьяне увидели, как свет снизошел на святого. Григор пас овец до осени, а осенью, получив четыре кувшина зерна, отдал его сиротам, которые питались этими четырьмя кувшинами хлеба семь лет».
Немало легенд и преданий, в которых верующий народ с благоговением рассказывает о чудодейственной силе слова и молитвы святого нарекского монаха. Вот, к примеру: «Григор Нарекаци после посещения монастыря святого Карапета приходит в город Муш и встречает на улице похоронную процессию - впереди идут убитые горем старик, старуха и молодая женщина, а щ ними великое множество людей. Нарекаци спрашивает - кого, мол, хоронят, кто умерший? Ему говорят, что покойник всего семь дней назад обвенчался, молодая женщина в черном - его жена. Григор присоединятся к процессии, приходит вместе со всеми на кладбище и там, приблизившись к гробу, осеняет покойного к ростом и произносит имя божие. Покойник тут же оживает. Увидев это чудо, все бросаются в ноги к Григору и славят бога». Еще одно предание аналогичного содержания: «Григор Нарекаци тайком от своего дяди покинул ночью его дом, пошел в село Артонк, что в провинции Муш» и нанялся туда пастухом. Два года подряд он все, что зарабатывал, раздавал нищим. Однажды дьявол, желая насолить Григору, убил хозяйского вола. Хозяин, узнав про это, сильно рассердился, но Нарекаци пообещал пригнать вечером вола, живого и невредимого - а если не пригонит, то пусть хозяин целый год не платит ему жалованья. Вернувшись в поле, Григор начал молиться богу и попросил его оживить околевшего вола, и господь внял словам Нарекали. Вечером хозяин вышел встречать стадо и увидел своего вола живым».
По народному представлению сила слова и молитвы Нарекаци не только не исчезает, но и не ослабевает даже после его смерти, она переходит на могилу святого, продолжая спасать страждущие души.
«По приказу местного курдского бека армянская крестьянка из деревни Нарек посадила на яйца наседку. Вскоре наседка вывела цыплят и стала бродить со своим выводком по деревне. Вдруг начался ливень. Наседка, чтобы уберечь своих цыплят, спряталась с ними за жернов, приваленный к стене, но камень упал и придавил ее вместе с цыплятами. В страхе перед гневом курдского бека крестьянка обратилась с молитвой к богу и Григору Нарекаци. Она положила раздавленную наседку с выводком в сито и отнесла их на могилу Нарекаци, а сама вернулась домой. Прошло немного времени, и курица с цыплятами ожили. Обрадовалась крестьянка и, воздев руки к небу, восславила бога и святого Григора, воскресившего ее цыплят».
В преданиях своих народ представляет Нарекаци бедным крестьянином, пастухом или сыном бедняка («Нарекаци был сыном бедных родителей; семь лет он ходил в пастухах...»), словом, человеком из народной же гущи.
Интересно и то, что Нарекаци, предстающий в народных преданиях, чужд религиозной нетерпимости, и для него мерилом добродетели человека является не принадлежность его к той или иной вере, а прежде всего общественная полезность его труда. Эта идея своеобразно преломилась в нижеследующем предании: «Переходя через Тигр по чудесному мосту Бавту, Григор Нарекаци узнал о том, что строитель моста был язычником и поэтому после смерти попал в ад. Нарекаци пришел на могилу мастера, осенил ее крестным знамением и принялся молиться, чтобы он был допущен в рай. По велению господа мастер воскрес и Нарекаци стал убеждать его покаяться и просить у бога отпущения грехов. Мастер послушался, был крещен рукою Нарекаци и, снова обратившись во прах, водворился в раю».
Таков гениальный поэт, знаменитый монах Григор Нарекаци, великий гуманист и мыслитель в представлении народа. Нарекаци поистине вечно живой не только в своих произведениях, но и в воображении народа, и многочисленных прекрасных преданиях, по-своему восполняющих недостаток биографических фактов и завершающих его образ. Добавим, что одно из преданий о Нарекаци обработал известный поэт средневековья Ованес Тлкуранци.
Несмотря на благочестивый образ жизни, на почет и высокий авторитет, Нарекаци, как видно, подвергался преследованиям, имел врагов, всячески старавшихся навредить ему. Бессовестно оклеветанный, он был вызван в духовный суд, о котором поведано в «Айсма вурке»: «Так как он (Григор) с большим усердием старался исправить расстроенный церковный чин, то несколько завистников оклеветали его перед епископами князьями и этого вардапета истины прозвали еретиком и маловером. А те, собравшись, решили устроит суд над Нарекаци и отправили за ним своих людей» Далее приводится замечательное предание о жареных голубях: «Нарекаци принял посланцев учтиво и, перед тем как пуститься в путь, пригласил их к столу, положив перед ними два жареных голубя. А была пятница день поста, и посланцы напомнили об этом Нарекаци. Он попросил прощения, - забыл, дескать, про пост, сказал гостям: «Велите этим птицам ожить и полететь» Гости, конечно, этого сделать не смогли. Тогда сам Нарекаци повелел птицам ожить и полететь, и оживши голуби улетели. Пришельцы, увидев воочию святость Нарекаци, ужаснулись, и заговор распался».
Это, конечно, весьма обычная для средневековья легенда, подобные которой часто встречаются в рукописях. Однако нет сомнения в том, что они не создавались на пустом месте, в их основе нередко лежали реальные события и факты. Вышеприведенная легенда интересна тем, что из нее мы узнаем: Григора Нарекаци преследовали и вызывали в суд, ему грозили наказание ссылка. К сожалению, источники не сообщают ничего определенного, не разъясняют, что за «расстроенный церковный чин» «с большим усердием старался исправить» Нарекаци, из-за чего и подвергся преследованиям и был назван «еретиком и маловером». Непонятны также, кто эти преследовавшие его «завистники». Словом, тут многое скрыто под пеленой неизвестности.
В этой связи заметим, что о неприятностях, причиненных ему врагами, Нарекаци намекает в отдельных частях «Книги скорбных песнопений», в то же время прося Бога на них не гневаться. Вот один пример:
Рубеж незлобивости, помяни ты добром тех из рода людского, Кто враги мои, тех, о коих в книге скорбных песнопений слова покаянные.
Совершенствуй ты их, отпусти им грехи, смилуйся над ними. Ради меня, господи, не гневайся на них,
Как на святых, клевещущих из-за вящей любви твоей ко мне, [отнесись к ним] как к хулителям зла, что справедливо Обвиняют меня, прости преступления их!